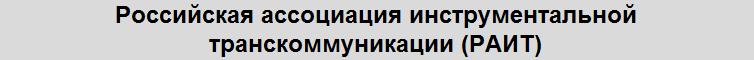Андрей Воинов
член РАИТ, исследователь ИТК (Москва)
Фридрих Юргенсон
(Контакты с Тонким миром)
Часть вторая.
(часть 1: http://эгф.рф/jurgenson.htm )
член РАИТ, исследователь ИТК (Москва)
Фридрих Юргенсон
(Контакты с Тонким миром)
Часть вторая.
(часть 1: http://эгф.рф/jurgenson.htm )
На первую «публичную» демонстрацию контактов в Стокгольме 28 декабря 1959 года Юргенсон пригласил доктора Бьеркхема, известного ученого, психиатра, а также своего друга Арне Вайсе с женой, работавшей в Шведской радиовещательной компании. Они разместились в большой комнате, Юргенсон включил магнитофон. Когда стали прослушивать голоса, то услышали чьи-то комментарии в отношении присутствующих. Этот феномен электронного голоса так поразил Арне Вайсе, что он вскочил, подошел к микрофону и громко приказал невидимым гостям покинуть дом.
Я попытался исправить неприятную ситуацию, объясняя с улыбкой и юмором, что все мы здесь собрались именно для того, чтобы услышать голоса. Я шутливо заметил, что нам следует быть повежливее с нашими неизвестными посетителями ([1]).
Арне и Юргенсон в конце вечера уединились, отнесли магнитофон в мастерскую и там включили его снова.
Арне беспокойно ходил взад и вперед. «Холодно, как холодно!» Произнес голос на пленке. Арне, не слыша этих слов, зафиксированных только магнитофоном, продолжал вполголоса. – «Впрочем, им тоже нужно сделать паузу». «Ничего подобного», - перебил его голос на немецком языке, слышимый только на пленке. «Нет, мы останемся у оборудования… - Здесь голос переключился на шведский. - …С утра до вечера и до глубокой ночи». И закончил по-немецки: «Холод, какой же в вас холод!» Эта фраза была произнесена громким голосом и, без сомнения, была ответом на многократно повторенный вопрос Арне ([2]).
«Холод, какой же в вас холод!» - метафорическое определение тех трудностей, с которыми сталкивается транскоммуникация. Юргенсон сказал тогда своему другу: «Пока разум сам не осознает, что может существовать и другая сфера бытия, никакие доказательства не помогут» ([3]).
Юргенсон пытался донести правду своего открытия до ученых, и была даже организована встреча у него дома со специалистом по акустике и физике вибраций и видным шведским профессором, но итог встречи был не утешительный: Юргенсон понял в этот вечер, «насколько бессмысленны и бесполезны такие публичные демонстрации» ([4]). В оправдание ученых, их скептицизма, Юргенсон вспомнил и себя самого, которому потребовалось несколько месяцев, чтобы избавиться от мнимого страха шизофрении и окончательно осознать, что личность действительно никогда не умирает, как не умирает и дух (сознание).
Ему удалось убедить шведское, а затем и мировое сообщество в том, что феномен электронного голоса, не объяснимый с точки зрения академической науки, существует. Шведское телевидение и радио не раз обращались к нему с интервью, снимались документальные фильмы, его дом превратился в один из самых посещаемых, а телефон временами казался «домашним тираном».
Но Юргенсон не только верил в важность своего открытия для человечества, но одновременно и сомневался в необходимости его быстрого признания, осознавая опасность разогрева человеческих страстей в мировом масштабе из-за «неразгаданной еще тайны».
…я часто задаю себе вопрос, что произошло бы, если бы по радио на полной громкости прозвучали голоса таких ушедших в мир иной личностей, как Эйнштейн, папа римский Пий XII, Анни Безант, Гитлер, Сталин, граф Чиано, Карузо и другие. Вероятно, это привело бы к всеобщему замешательству и шоку. Возможно, Восток и Запад начали бы обвинять друг друга в провокации, и наука и религия также не остались бы в стороне. Без постепенной, разумной подготовки общественности это может привести к недоразумению и полемике, а не разгаданная тайна разожжет эмоции… ([5])
В Кракове я не раз мысленно возвращался к международной конференции в Эстонии, в которой я принял участие незадолго до поездки в Польшу. Конференция была посвящена выдающемуся русскому филологу, культурологу. На закрытии конференции я услышал слова уже очень пожилой дамы, говорившей о том, как этот ученый был бы счастлив, увидев столько людей приехавших на конференцию, посвященной его памяти, как бы он радовался интересным докладам, людям, научным идеям. Но… смерть подвела черту: он не услышит и не увидит... Я чувствовал, что все участники испытывали близкие эмоции, – согласие и грусть.
И только я один мог в тот момент позволить себе внутренний смех, ибо вечером предыдущего дня вступал в контакт с ним, и говорил о конференции…
Он передал мне, что рад был слышать и видеть всех ее участников…
Слушая эту ученую даму, я подумал: если скажу ей, что он жив, захочет ли она, впрочем, как и другие участники конференции, поверить мне?
До меня дошла правда, которую я интуитивно чувствовал,
– НИКОГДА!..
Мысль о бессмертии личности столкнулась в моем сознании с не гуманностью отмены смерти в феноменологическом плане. Ведь ценность прожитой жизни фиксируется смертью, и никак иначе. Пока человек не умер, он еще в состоянии изменить себя, жизнь, творчество, поступки, когда же он умер – неизбежно подводится итог всему, что удалось и что не удалось сделать.
Нельзя отвергать смерть, ибо она придает законченный смысл земной жизни, но также нельзя отрицать и бессмертие личности, как процесс бесконечного развития человечества. Смерти нет – это правда, и смерть естественна как факт, с которым неизбежно сталкивается человек. Юргенсон воспринял смерть своего друга, садовника Гуго, как обычный человек, ощущая пустоту, печаль и даже тоску, понимая при этом, что Гуго не исчез из бытия, он в нем остается живым. Как примирить эти два тезиса, чтобы не было дисгармонии: ведь утверждая только один из них, мы теряем либо нашу божественную, либо человеческую природу.
Эту теорему я попытался решить таким исходным тезисом: бессмертие всегда личностно! Личность не умирает («смерти нет»), потому что она переходит в иной мир сразу, и по мере возможностей адаптируется к новым условиям новой жизни. Смерть же присутствует в сознании людей, физически испытавших утрату. Она есть следствие земных условий существования, естественной ограниченности, и потому она феноменологична, т.е. дана в непосредственном опыте ощущений и переживаний…
Инструментальная транскоммуникация порождает новую метафизику. Если прежние метафизические системы соединяли в себе веру и знание, то метафизика транскоммуникации соединяет в себе знание и веру. Знание практично, опирается на опыт общения с Тонким миром, оно созидает область веры в бессмертие, которая не ущемляет права человеческой одушевленности на горечь, тоску по умершему близкому человеку, создавая особую гармонию, в которой сочетаются идеи бессмертия души с феноменологией восприятия смерти. Так случилось, что два священника, православный и католический, в разное время и при разных обстоятельствах спросили меня, когда зашла речь об ИТК, - а что дает это знание? Отвечаю им обоим: новую метафизику жизни, богатство непосредственных и ожидаемых ощущений своего эмпирического и космического Я-существования, представление о том, что после смерти духовная сущность «не лежит на полке», дожидаясь Страшного Суда, а постоянно развивается, и жизнь земная – только первая ступень бесконечного развития…
Разве этого мало?..
Эту новую метафизику первым выразил Фридрих Юргенсон. Смерть Гуго привнесла в его жизнь смятение чувств, вполне естественное, а знание о бессмертии личности успокоило в понимании высшей гармонии человеческого существования.
Читатель, вероятно, спросит, почему уход друга причинил мне такую боль, если я знаю, что он жив и освободился от всех физических страданий… Сцена смерти оживала в моей памяти со всей ужасающей ясностью. Я видел беспомощную фигуру Гуго, сгорбившуюся и съежившуюся на кровати. Я слышал его ужасные стоны, чувствовал его бешеный пульс. Чувство беспомощности и глубокой печали сжимало мне горло. Мысль о том, что мог бы ему помочь, беспрестанно преследовала меня. Когда Бригитта и Гуннар поехали после обеда в Стокгольм, я решил наведаться в коттедж Гуго. Был ясный летний вечер, солнце тепло и ласково светило в окно. Хотя Бригитта с любовью убрала комнату, меня удивило ощущение гнетущей заброшенности. Все было на своем месте. На столе лежали очки Гуго, несколько увеличительных линз и электробритва. Я вошел в спальню. Кровать была застелена голубым покрывалом. Все было так мучительно близко. Казалось, время остановилось здесь. Это была какая-то ужасная игра. Куда бы я ни посмотрел, меня переполняли воспоминания. Это было не только прошлое. Я вдруг понял, что будущее тоже включилось в игру. Вещи не только задавали мне вопрос: «Ты помнишь?» Они говорили и о том, чего больше не произойдет. Садовые ножницы, рабочие ботинки, банный халат – все эти личные вещи одновременно взывали ко мне: «Никогда, никогда больше!» И все же, разве будущее и настоящее не являются лишь плодом моего воображения? Когда я осознал это, моя печаль начала слабеть. Это отрезвляющее открытие не только изменило мое настроение, но и вернуло мне внутреннее спокойствие. «Стоп!» - сказал я себе. Здесь происходит нечто особенное, и я должен проникнуть в глубь этого. Я сел на стул Гуго и попытался собраться с мыслями. Я попытался понять, почему мы страдаем и как возникает страдание. Разве мы не крутимся в жерновах времени, разрываясь между прошлым и будущим, между двумя взаимодействующими противоположностями? Наши страдания создаются «тем, что было» и «что никогда больше не произойдет». Но этот вывод существует до тех пор, пока мы не увидим его ошибочную основу. Суждения о «том, что было», и о том, что «никогда больше не произойдет», верны лишь отчасти, только в том, что касается нашего физического тела. Но каждый человек состоит не только из тела, но в то же время представляет собой духовную сущность. Я покидал домик Гуго со смешанным чувством печали и уверенности, потому что боль утраты все еще жила во мне. И в то же время я был преисполнен слабым предчувствием того, что успешно пережил самую главную операцию на своей душе ([6]).
…В Кракове я остро переживал нежелание людей воспринимать метафизику бытия, их склонность к утилитарному сознанию, в котором есть только то, что есть (видимо и слышимо), а остальное – от лукавого, такова нехитрая философия многих. Я не осуждал людей, а скорее горевал и даже пытался их понять. Но мои занятия инструментальной транскоммуникацией имели цель совсем другую – доказать природу вечной жизни. Если я признаю склонность людей к утилитарному мировоззрению, то теряю уверенность в необходимости своих исследований. Если же я не признаю людской склонности видеть смерть конечной, то восстаю против их культурной традиции, культурных ценностей, даже против их такой именно человечности.
Как быть? Почти шекспировский вопрос…
Вот его я и задал 15 июня 2013 г. не кому-нибудь, а Фридриху Юргенсону.
Мне хотелось установить гармонию внутри себя, высказать наболевшее. Я твердо знал, что только он меня поймет, и этого было бы достаточно.
Мои вопросы звучали в эфире откровенно: «а нужно ли людям знать правду, они так верят в смерть, так хотят ее, что это стало частью их культуры? Переубеждать их, что смерти нет? Но человек верит в смерть!.. Что вы думаете?»
Ответы шли параллельно моим словам, и даже их немного опережая. Что, кстати, свидетельствует в энный раз о подлинности контактов: подделать такое невозможно.
Мне показалось, что кто-то другой, не Юргенсон, прокомментировал мои вопросы (уже после того, как я их произнес):
Я попытался исправить неприятную ситуацию, объясняя с улыбкой и юмором, что все мы здесь собрались именно для того, чтобы услышать голоса. Я шутливо заметил, что нам следует быть повежливее с нашими неизвестными посетителями ([1]).
Арне и Юргенсон в конце вечера уединились, отнесли магнитофон в мастерскую и там включили его снова.
Арне беспокойно ходил взад и вперед. «Холодно, как холодно!» Произнес голос на пленке. Арне, не слыша этих слов, зафиксированных только магнитофоном, продолжал вполголоса. – «Впрочем, им тоже нужно сделать паузу». «Ничего подобного», - перебил его голос на немецком языке, слышимый только на пленке. «Нет, мы останемся у оборудования… - Здесь голос переключился на шведский. - …С утра до вечера и до глубокой ночи». И закончил по-немецки: «Холод, какой же в вас холод!» Эта фраза была произнесена громким голосом и, без сомнения, была ответом на многократно повторенный вопрос Арне ([2]).
«Холод, какой же в вас холод!» - метафорическое определение тех трудностей, с которыми сталкивается транскоммуникация. Юргенсон сказал тогда своему другу: «Пока разум сам не осознает, что может существовать и другая сфера бытия, никакие доказательства не помогут» ([3]).
Юргенсон пытался донести правду своего открытия до ученых, и была даже организована встреча у него дома со специалистом по акустике и физике вибраций и видным шведским профессором, но итог встречи был не утешительный: Юргенсон понял в этот вечер, «насколько бессмысленны и бесполезны такие публичные демонстрации» ([4]). В оправдание ученых, их скептицизма, Юргенсон вспомнил и себя самого, которому потребовалось несколько месяцев, чтобы избавиться от мнимого страха шизофрении и окончательно осознать, что личность действительно никогда не умирает, как не умирает и дух (сознание).
Ему удалось убедить шведское, а затем и мировое сообщество в том, что феномен электронного голоса, не объяснимый с точки зрения академической науки, существует. Шведское телевидение и радио не раз обращались к нему с интервью, снимались документальные фильмы, его дом превратился в один из самых посещаемых, а телефон временами казался «домашним тираном».
Но Юргенсон не только верил в важность своего открытия для человечества, но одновременно и сомневался в необходимости его быстрого признания, осознавая опасность разогрева человеческих страстей в мировом масштабе из-за «неразгаданной еще тайны».
…я часто задаю себе вопрос, что произошло бы, если бы по радио на полной громкости прозвучали голоса таких ушедших в мир иной личностей, как Эйнштейн, папа римский Пий XII, Анни Безант, Гитлер, Сталин, граф Чиано, Карузо и другие. Вероятно, это привело бы к всеобщему замешательству и шоку. Возможно, Восток и Запад начали бы обвинять друг друга в провокации, и наука и религия также не остались бы в стороне. Без постепенной, разумной подготовки общественности это может привести к недоразумению и полемике, а не разгаданная тайна разожжет эмоции… ([5])
В Кракове я не раз мысленно возвращался к международной конференции в Эстонии, в которой я принял участие незадолго до поездки в Польшу. Конференция была посвящена выдающемуся русскому филологу, культурологу. На закрытии конференции я услышал слова уже очень пожилой дамы, говорившей о том, как этот ученый был бы счастлив, увидев столько людей приехавших на конференцию, посвященной его памяти, как бы он радовался интересным докладам, людям, научным идеям. Но… смерть подвела черту: он не услышит и не увидит... Я чувствовал, что все участники испытывали близкие эмоции, – согласие и грусть.
И только я один мог в тот момент позволить себе внутренний смех, ибо вечером предыдущего дня вступал в контакт с ним, и говорил о конференции…
Он передал мне, что рад был слышать и видеть всех ее участников…
Слушая эту ученую даму, я подумал: если скажу ей, что он жив, захочет ли она, впрочем, как и другие участники конференции, поверить мне?
До меня дошла правда, которую я интуитивно чувствовал,
– НИКОГДА!..
Мысль о бессмертии личности столкнулась в моем сознании с не гуманностью отмены смерти в феноменологическом плане. Ведь ценность прожитой жизни фиксируется смертью, и никак иначе. Пока человек не умер, он еще в состоянии изменить себя, жизнь, творчество, поступки, когда же он умер – неизбежно подводится итог всему, что удалось и что не удалось сделать.
Нельзя отвергать смерть, ибо она придает законченный смысл земной жизни, но также нельзя отрицать и бессмертие личности, как процесс бесконечного развития человечества. Смерти нет – это правда, и смерть естественна как факт, с которым неизбежно сталкивается человек. Юргенсон воспринял смерть своего друга, садовника Гуго, как обычный человек, ощущая пустоту, печаль и даже тоску, понимая при этом, что Гуго не исчез из бытия, он в нем остается живым. Как примирить эти два тезиса, чтобы не было дисгармонии: ведь утверждая только один из них, мы теряем либо нашу божественную, либо человеческую природу.
Эту теорему я попытался решить таким исходным тезисом: бессмертие всегда личностно! Личность не умирает («смерти нет»), потому что она переходит в иной мир сразу, и по мере возможностей адаптируется к новым условиям новой жизни. Смерть же присутствует в сознании людей, физически испытавших утрату. Она есть следствие земных условий существования, естественной ограниченности, и потому она феноменологична, т.е. дана в непосредственном опыте ощущений и переживаний…
Инструментальная транскоммуникация порождает новую метафизику. Если прежние метафизические системы соединяли в себе веру и знание, то метафизика транскоммуникации соединяет в себе знание и веру. Знание практично, опирается на опыт общения с Тонким миром, оно созидает область веры в бессмертие, которая не ущемляет права человеческой одушевленности на горечь, тоску по умершему близкому человеку, создавая особую гармонию, в которой сочетаются идеи бессмертия души с феноменологией восприятия смерти. Так случилось, что два священника, православный и католический, в разное время и при разных обстоятельствах спросили меня, когда зашла речь об ИТК, - а что дает это знание? Отвечаю им обоим: новую метафизику жизни, богатство непосредственных и ожидаемых ощущений своего эмпирического и космического Я-существования, представление о том, что после смерти духовная сущность «не лежит на полке», дожидаясь Страшного Суда, а постоянно развивается, и жизнь земная – только первая ступень бесконечного развития…
Разве этого мало?..
Эту новую метафизику первым выразил Фридрих Юргенсон. Смерть Гуго привнесла в его жизнь смятение чувств, вполне естественное, а знание о бессмертии личности успокоило в понимании высшей гармонии человеческого существования.
Читатель, вероятно, спросит, почему уход друга причинил мне такую боль, если я знаю, что он жив и освободился от всех физических страданий… Сцена смерти оживала в моей памяти со всей ужасающей ясностью. Я видел беспомощную фигуру Гуго, сгорбившуюся и съежившуюся на кровати. Я слышал его ужасные стоны, чувствовал его бешеный пульс. Чувство беспомощности и глубокой печали сжимало мне горло. Мысль о том, что мог бы ему помочь, беспрестанно преследовала меня. Когда Бригитта и Гуннар поехали после обеда в Стокгольм, я решил наведаться в коттедж Гуго. Был ясный летний вечер, солнце тепло и ласково светило в окно. Хотя Бригитта с любовью убрала комнату, меня удивило ощущение гнетущей заброшенности. Все было на своем месте. На столе лежали очки Гуго, несколько увеличительных линз и электробритва. Я вошел в спальню. Кровать была застелена голубым покрывалом. Все было так мучительно близко. Казалось, время остановилось здесь. Это была какая-то ужасная игра. Куда бы я ни посмотрел, меня переполняли воспоминания. Это было не только прошлое. Я вдруг понял, что будущее тоже включилось в игру. Вещи не только задавали мне вопрос: «Ты помнишь?» Они говорили и о том, чего больше не произойдет. Садовые ножницы, рабочие ботинки, банный халат – все эти личные вещи одновременно взывали ко мне: «Никогда, никогда больше!» И все же, разве будущее и настоящее не являются лишь плодом моего воображения? Когда я осознал это, моя печаль начала слабеть. Это отрезвляющее открытие не только изменило мое настроение, но и вернуло мне внутреннее спокойствие. «Стоп!» - сказал я себе. Здесь происходит нечто особенное, и я должен проникнуть в глубь этого. Я сел на стул Гуго и попытался собраться с мыслями. Я попытался понять, почему мы страдаем и как возникает страдание. Разве мы не крутимся в жерновах времени, разрываясь между прошлым и будущим, между двумя взаимодействующими противоположностями? Наши страдания создаются «тем, что было» и «что никогда больше не произойдет». Но этот вывод существует до тех пор, пока мы не увидим его ошибочную основу. Суждения о «том, что было», и о том, что «никогда больше не произойдет», верны лишь отчасти, только в том, что касается нашего физического тела. Но каждый человек состоит не только из тела, но в то же время представляет собой духовную сущность. Я покидал домик Гуго со смешанным чувством печали и уверенности, потому что боль утраты все еще жила во мне. И в то же время я был преисполнен слабым предчувствием того, что успешно пережил самую главную операцию на своей душе ([6]).
…В Кракове я остро переживал нежелание людей воспринимать метафизику бытия, их склонность к утилитарному сознанию, в котором есть только то, что есть (видимо и слышимо), а остальное – от лукавого, такова нехитрая философия многих. Я не осуждал людей, а скорее горевал и даже пытался их понять. Но мои занятия инструментальной транскоммуникацией имели цель совсем другую – доказать природу вечной жизни. Если я признаю склонность людей к утилитарному мировоззрению, то теряю уверенность в необходимости своих исследований. Если же я не признаю людской склонности видеть смерть конечной, то восстаю против их культурной традиции, культурных ценностей, даже против их такой именно человечности.
Как быть? Почти шекспировский вопрос…
Вот его я и задал 15 июня 2013 г. не кому-нибудь, а Фридриху Юргенсону.
Мне хотелось установить гармонию внутри себя, высказать наболевшее. Я твердо знал, что только он меня поймет, и этого было бы достаточно.
Мои вопросы звучали в эфире откровенно: «а нужно ли людям знать правду, они так верят в смерть, так хотят ее, что это стало частью их культуры? Переубеждать их, что смерти нет? Но человек верит в смерть!.. Что вы думаете?»
Ответы шли параллельно моим словам, и даже их немного опережая. Что, кстати, свидетельствует в энный раз о подлинности контактов: подделать такое невозможно.
Мне показалось, что кто-то другой, не Юргенсон, прокомментировал мои вопросы (уже после того, как я их произнес):
«Достаточно удачное обвинение»
Юргенсон отвечал, слегка опережая мои слова:
«...А нужно ли знать людям (правду) – Радость знать правду!»
Когда я сказал, что «человек верит в смерть», пришел такой параллельный ответ:
«Он верит в страх!»
Я чувствовал, как глубоко он понимает мои вопросы. Он дал мне советы, которые не содержали в себе ничего удивительного, но мне стало легче, ибо я понял, что не обязательно останавливаться на месте, задавая себе вопросы, на которые все равно нет окончательных ответов. Он согласился с моими мыслями, но при условии:
«Простаивать только в делах не надо!»
И еще:
«Ты постарайся!»
Если проводить семантический анализ сказанного им, то следует подумать, какие же слова ключевые в передачи оттенков мысли. В первом совете ключевое слово «только»: в смысле, твои сомнения небеспочвенны, но надо трудиться, работать, не простаивать в бессмысленных колебаниях, которые все равно ничего не решают. Во втором совете ключевое слово – «ты». Это значит, что пусть люди живут, как они привыкли, – ты постарайся!
Я получил и личное напутствие, теплое (человеческое) и космическое одновременно:
«Ты управляй – я больше никогда не вернусь!»
Космизм гениального невозвращенца прокомментировал кто-то на станции «Санчита».
«Юргенсон – он ведь праведник!»
Примечания
[1] Юргенсон Ф. Радиоконтакт с потусторонним миром. М, 2011, стр. 64.
Электронная версия: http://www.rait.airclima.ru/books/Jurgenson.doc
Электронная версия: http://www.rait.airclima.ru/books/Jurgenson.doc
[2] Там же, с. 68.
[3] Там же, с. 69.
[4] Там же, с. 74.
[5] Там же, с. 137
[6] Там же, с. 193-195