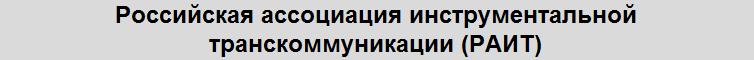Андрей Воинов
член РАИТ, исследователь ИТК (Москва)
Антоний, митрополит Сурожский
(Контакты с Тонким миром)
Часть первая
член РАИТ, исследователь ИТК (Москва)
Антоний, митрополит Сурожский
(Контакты с Тонким миром)
Часть первая
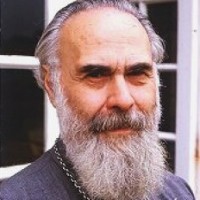 Краткая справка. Андрей Блум (Антоний Сурожский) родился 6 (19) июня 1914 года в Лозанне, в семье сотрудника российской дипломатической службы. Отец — Борис Эдуардович Блум (1882—1937) — имел шотландские корни. Мать — Ксения Николаевна Скрябина (1889—1958), единокровная сестра знаменитого композитора Александра Скрябина. Детство Андрея прошло в Персии, где его отец был консулом. После революции в России семья была вынуждена эмигрировать из страны, несколько лет скиталась по Европе, и в 1923 году поселилась в Париже. В 14-летнем возрасте Андрей прочёл Евангелие и обратился ко Христу, состоял активным членом РСХД, был прихожанином Трёхсвятительского подворья в Париже. В 1931 году был посвящён в стихарь для служения в храме Трёхсвятительского подворья, единственного тогда храма Московского Патриархата в Париже. По завершении курса школы поступил в Сорбонну и окончил там биологический и медицинский факультеты (1938). 10 сентября 1939 года тайно принял монашеские обеты и отправился на фронт в качестве армейского хирурга (1939—1940), затем работал врачом в Париже. Во время оккупации Франции участвовал в движении Французского сопротивления, был врачом в антифашистском подполье. 17 апреля 1943 года был пострижен в мантию с именем Антоний в честь преподобного Антония Киево-Печерского. Андрей Блум работал врачом вплоть до 27 октября 1948 года, когда митрополит Серафим (Лукьянов) рукоположил его во иеродиакона. 14 ноября 1948 года митрополитом Серафимом (Лукьяновым) рукоположён во иеромонаха и направлен в Великобританию в качестве духовного руководителя англо-православного Содружества святого Албания и преподобного Сергия (1948—1950). С 1 сентября 1950 года — настоятель патриаршего храма святого апостола Филиппа и преподобного Сергия в Лондоне. 7 января 1954 года возведён в сан игумена. 9 мая 1956 года возведён в сан архимандрита. В декабре этого же года назначен настоятелем патриаршего храма Успения Божией Матери и Всех святых в Лондоне. На должности настоятеля данного храма, впоследствии кафедрального собора, он оставлялся до своей кончины. В 1958 году был участником богословских собеседований между делегациями Православных Церквей и представителями Англиканской Церкви. В 1961 году в составе делегации Русской православной церкви участвовал в работе съезда Всемирного совета церквей (ВСЦ) в Нью-Дели. В 1962 году возведён в сан архиепископа с поручением окормления русских православных приходов в Великобритании и Ирландии во главе учреждённой 10 октября 1962 года Сурожской епархии РПЦ в Великобритании. Его проповеди привлекли в лоно православной Церкви сотни англичан. 3 декабря 1965 года возведён в сан митрополита и назначен Патриаршим экзархом Западной Европы. В 1968 году в составе делегации Русской православной церкви участвовал в работе съезда Всемирного совета церквей (ВСЦ) в Упсале. С 1968 по 1975 года — член Центрального комитета ВСЦ. Участник Поместного Собора Русской православной церкви 1971 года. В 1972—1973
годы — читал лекции в Кембриджском университете. 31 января 1983 года Совет Московской духовной академии присудил митрополиту Антонию степень доктора богословия honoris causa за совокупность его научно-богословских и проповеднических трудов, опубликованных с 1948 года. За годы своего служения в Великобритании трудами митрополита Антония на основе единственного небольшого русского прихода в Лондоне образовалась целая епархия. В епархии читались лекции, проводились ежегодные приходские собрания, общеепархиальные съезды и собрания духовенства. Митрополит Антоний активно участвовал в церковной и общественной жизни и пользовался известностью в разных странах. Скончался 4 августа 2003 года в Лондоне в хосписе. Похоронен на Бромптонском кладбище.
Краткая справка. Андрей Блум (Антоний Сурожский) родился 6 (19) июня 1914 года в Лозанне, в семье сотрудника российской дипломатической службы. Отец — Борис Эдуардович Блум (1882—1937) — имел шотландские корни. Мать — Ксения Николаевна Скрябина (1889—1958), единокровная сестра знаменитого композитора Александра Скрябина. Детство Андрея прошло в Персии, где его отец был консулом. После революции в России семья была вынуждена эмигрировать из страны, несколько лет скиталась по Европе, и в 1923 году поселилась в Париже. В 14-летнем возрасте Андрей прочёл Евангелие и обратился ко Христу, состоял активным членом РСХД, был прихожанином Трёхсвятительского подворья в Париже. В 1931 году был посвящён в стихарь для служения в храме Трёхсвятительского подворья, единственного тогда храма Московского Патриархата в Париже. По завершении курса школы поступил в Сорбонну и окончил там биологический и медицинский факультеты (1938). 10 сентября 1939 года тайно принял монашеские обеты и отправился на фронт в качестве армейского хирурга (1939—1940), затем работал врачом в Париже. Во время оккупации Франции участвовал в движении Французского сопротивления, был врачом в антифашистском подполье. 17 апреля 1943 года был пострижен в мантию с именем Антоний в честь преподобного Антония Киево-Печерского. Андрей Блум работал врачом вплоть до 27 октября 1948 года, когда митрополит Серафим (Лукьянов) рукоположил его во иеродиакона. 14 ноября 1948 года митрополитом Серафимом (Лукьяновым) рукоположён во иеромонаха и направлен в Великобританию в качестве духовного руководителя англо-православного Содружества святого Албания и преподобного Сергия (1948—1950). С 1 сентября 1950 года — настоятель патриаршего храма святого апостола Филиппа и преподобного Сергия в Лондоне. 7 января 1954 года возведён в сан игумена. 9 мая 1956 года возведён в сан архимандрита. В декабре этого же года назначен настоятелем патриаршего храма Успения Божией Матери и Всех святых в Лондоне. На должности настоятеля данного храма, впоследствии кафедрального собора, он оставлялся до своей кончины. В 1958 году был участником богословских собеседований между делегациями Православных Церквей и представителями Англиканской Церкви. В 1961 году в составе делегации Русской православной церкви участвовал в работе съезда Всемирного совета церквей (ВСЦ) в Нью-Дели. В 1962 году возведён в сан архиепископа с поручением окормления русских православных приходов в Великобритании и Ирландии во главе учреждённой 10 октября 1962 года Сурожской епархии РПЦ в Великобритании. Его проповеди привлекли в лоно православной Церкви сотни англичан. 3 декабря 1965 года возведён в сан митрополита и назначен Патриаршим экзархом Западной Европы. В 1968 году в составе делегации Русской православной церкви участвовал в работе съезда Всемирного совета церквей (ВСЦ) в Упсале. С 1968 по 1975 года — член Центрального комитета ВСЦ. Участник Поместного Собора Русской православной церкви 1971 года. В 1972—1973
годы — читал лекции в Кембриджском университете. 31 января 1983 года Совет Московской духовной академии присудил митрополиту Антонию степень доктора богословия honoris causa за совокупность его научно-богословских и проповеднических трудов, опубликованных с 1948 года. За годы своего служения в Великобритании трудами митрополита Антония на основе единственного небольшого русского прихода в Лондоне образовалась целая епархия. В епархии читались лекции, проводились ежегодные приходские собрания, общеепархиальные съезды и собрания духовенства. Митрополит Антоний активно участвовал в церковной и общественной жизни и пользовался известностью в разных странах. Скончался 4 августа 2003 года в Лондоне в хосписе. Похоронен на Бромптонском кладбище.*****
Июнь 2013 года в Кракове выдался жарким.
Я ходил по улицам старого города и пытался представить себе, как эти уютные уголки европейского города, выглядели при нацистах: в каждом из них мне чудилось событие ареста или облавы, из каждого могли разноситься по городу звуки коротких автоматных очередей, отчаянные крики людей… Но жители Кракова выходили на улицу, чтобы вопреки страху смерти, продолжать жить…
Такая ситуация была повсюду в оккупированной Европе, и я вспомнил об одном удивительном человеке, который так же, как и Папа римский, Иоанн-Павел II (см. предыдущий очерк), жил под немецкой оккупацией, но не в Кракове, а в Париже, участвовал в движении «Сопротивление», лечил людей, несмотря на угрозу ареста и смерти, был хирургом… Так же просто, как люди выходят на улицу, не зная, вернуться они домой или нет, он проводил хирургические операции бойцам Сопротивления, у которых не было другой возможности спасти себя. Все по-настоящему героическое очень буднично. Просто люди делали то, что не могли не делать, и относились к этому спокойно, без всякого пафоса…
Этим хирургом был Андрей Блум, русский эмигрант первой волны, ставший затем одним из самых ярких проповедников христианства в православном мире под именем Антоний, митрополит Сурожский.
Что я о нем знал? То, что он был человеком необыкновенной искренности и простоты в общении с людьми. Размышляя о том, что именно притягивало к нему людей, я вдруг понял, что эта искренность – обыкновенное человеческое тепло, обращенное к замороженному мирским холодом человеку...
Тут же пулей неслась мысль: каким же горячим было тепло Христа, когда Он шел к людям со словами любви!.. Ответное чувство размораживает, принуждает оглядеться вокруг, и признать, что теплом жив человек, теплом спасается, верит в тепло, умирает без тепла, ибо Жизнь – это и есть само тепло, неизъяснимое чудо…
После революции семья Андрея Блума покинула родину, и оказалась в Париже. Начались тяжелые дни эмиграции. Отец впал в состояние депрессии, мать еле-еле сводила концы с концами, восьмилетнего сына отдали, как потом говорил сам Антоний, в «трудную школу», на окраине Париже, где его били нещадно. Били даже с «благородным» пафосом – дабы научился сам себя защищать. После таких «упражений» его иногда увозили в больницу, но на это никто не обращал внимания. Надо было закалиться! Научиться презирать людей! Бить в ответ так же сильно! Словом, выжить, чтобы жить!
Я ходил по улицам старого города и пытался представить себе, как эти уютные уголки европейского города, выглядели при нацистах: в каждом из них мне чудилось событие ареста или облавы, из каждого могли разноситься по городу звуки коротких автоматных очередей, отчаянные крики людей… Но жители Кракова выходили на улицу, чтобы вопреки страху смерти, продолжать жить…
Такая ситуация была повсюду в оккупированной Европе, и я вспомнил об одном удивительном человеке, который так же, как и Папа римский, Иоанн-Павел II (см. предыдущий очерк), жил под немецкой оккупацией, но не в Кракове, а в Париже, участвовал в движении «Сопротивление», лечил людей, несмотря на угрозу ареста и смерти, был хирургом… Так же просто, как люди выходят на улицу, не зная, вернуться они домой или нет, он проводил хирургические операции бойцам Сопротивления, у которых не было другой возможности спасти себя. Все по-настоящему героическое очень буднично. Просто люди делали то, что не могли не делать, и относились к этому спокойно, без всякого пафоса…
Этим хирургом был Андрей Блум, русский эмигрант первой волны, ставший затем одним из самых ярких проповедников христианства в православном мире под именем Антоний, митрополит Сурожский.
Что я о нем знал? То, что он был человеком необыкновенной искренности и простоты в общении с людьми. Размышляя о том, что именно притягивало к нему людей, я вдруг понял, что эта искренность – обыкновенное человеческое тепло, обращенное к замороженному мирским холодом человеку...
Тут же пулей неслась мысль: каким же горячим было тепло Христа, когда Он шел к людям со словами любви!.. Ответное чувство размораживает, принуждает оглядеться вокруг, и признать, что теплом жив человек, теплом спасается, верит в тепло, умирает без тепла, ибо Жизнь – это и есть само тепло, неизъяснимое чудо…
После революции семья Андрея Блума покинула родину, и оказалась в Париже. Начались тяжелые дни эмиграции. Отец впал в состояние депрессии, мать еле-еле сводила концы с концами, восьмилетнего сына отдали, как потом говорил сам Антоний, в «трудную школу», на окраине Париже, где его били нещадно. Били даже с «благородным» пафосом – дабы научился сам себя защищать. После таких «упражений» его иногда увозили в больницу, но на это никто не обращал внимания. Надо было закалиться! Научиться презирать людей! Бить в ответ так же сильно! Словом, выжить, чтобы жить!
Антоний вспоминал:
Ну, били, били и, в общем, не убили! Научили сначала терпеть побои; потом научили немного драться и защищаться – и когда я бился, то бился насмерть; но никогда в жизни я не испытывал так много страха и так много боли, и физической, и душевной, как тогда. Потому что я был хитрая скотинка, я дал себе зарок ни словом не обмолвиться об этом дома: все равно некуда было деться, зачем прибавлять маме еще одну заботу? И поэтому я впервые рассказал ей об этом, когда мне было лет сорок пять, когда это уже было дело отзвеневшее. Но в этот год было было действительно тяжело; мне было восемь-девять лет, и я не умел жить. Через сорок пять лет я однажды ехал в метро по этой линии; я читал, в какой-то момент поднял глаза и увидел название одной из последних станций перед школой – и упал в обморок. Так, что вероятно, это где-то очень глубоко засело: потому что я не истерического типа и у меня есть какая-то выдержка в жизни, – и это меня так ударило где-то в самую глубину. Это показывает, до чего какое-нибудь переживание может глубоко войти в плоть и кровь. Но чему я научился тогда, кроме того чтобы физически выносить довольно многое, это те вещи, от которых мне пришлось потом очень долго отучиваться: во-первых, что всякий человек, любого пола, любого возраста и размера, вам от рождения враг и опасность; во-вторых, что можно выжить, только если стать совершенно бесчувственным и каменным; в третьих, что можно жить, только если уметь жить, как зверь в джунглиях. Агрессивная сторона во мне не очень развилась, но вот эта убийственная сторона, чувство, что надо стать совершенно мертвым и окаменелым, чтобы выжить, – ее мне пришлось годами потом изживать, дейстительно годами ([1])
При этом Андрей Блум довольно жестко воспитывал сам себя, считая, что мужественность – необходимое качество.
В старших классах он не проявлял большого интереса к вере, более того – был настроен антицерковно.
В старших классах он не проявлял большого интереса к вере, более того – был настроен антицерковно.
…я был очень антицерковно настроен из-за того, что я видел в жизни моих товарищей католиков или протестантов, так что Бога для меня не существовало, а Церковь была чисто отрицательным явлением. Основной мой опыт в этом отношении был, может быть, такой. Когда мы оказались в эмиграции в 1923 году, Католическая церковь предложила стипендии для русских мальчиков и девочек в школы. Помню, мама меня повела на «смотрины», со мной поговорил кто-то и с мамой тоже, и все было устроено, и мы думали, что дело уже в шляпе. И мы собрались уходить, когда тот, кто вел с нами разговор, нас на минутку задержал и сказал: конечно, это предполагает, что мальчик станет католиком. И я помню, как я встал и сказал маме: уйдем, я не хочу, что ты меня продавала. И после этого я кончил с Церковью, потому что у меня родилось чувство, что если это Церковь, тогда, право, совершенно нечего туда ходить и вообще этим интересоваться ([2])
Однако и в церковь православную его неоднократно пытались затащить! Хотя бы на воскресную литургию! Но тут обнаружилась странная особенность его организма:
Я обнаружил, что если войду в церковь шага на три, глубоко потяну носом и вдохну ладана, я мгновенно падаю в обморок. И потому дальше третьего шага я никогда в церковь не заходил. Падал в обморок – и меня уводили домой, и на этом кончалась моя ежегодная религиозная пытка ([3])
С 1927 г. он состоял в организации «Витязи», созданной Русским Студенческим Христианским Движением. В детском лагере этой организации был священник, лет тридцати, с большой окладистой бородой, резкими чертами лица. Он вел себя странно… Блум не был избалован вниманием, а побои в школе под Парижем научили его относиться к добрым поступкам, как к необъяснимому чуду человеческих отношений. Но путь к Богу и пролегал через человеческие отношения. Ведь если Он есть, то обязан быть в каждом – и проявлять себя в каждом, как Бог: необъяснимо и трепетно, в безотказной любви. Отношения между людьми – это поле божественного утверждения, это Его высшая радость и неземное страдание. Мы носим в себе Его образ, а выносим Его за пределы себя, когда дружим, любим, сочувствуем, помогает близким или дальним. Так хитро устроил Бог свою западню для человека, который порой ищет Его и не находит сразу.
Священник вел себя странно, – для Блума-подростка, еще не осознавшего ни своего призвания, ни смысла человеческого существования.
Он не любил нас в ответ на предложенную ему любовь, ласку, он не любил нас в награду за то, что мы были «хорошие» или послушные, или там что-нибудь в этом роде. У него просто была через край сердца изливающаяся любовь. Каждый мог получить ее всю, не то, чтобы какую-то долю или капельку, и никогда она не отнималась. Единственное, что случалось: это любовь к какому-нибудь мальчику или девочке была для него радостью или большим горем. Но это были как бы две стороны той же самой любви; никогда она не уменьшалась, никогда не колебалась. И действительно, если прочесть у апостола Павла о любви, о том, что любовь всему верит, на все надеется, никогда не перестает и т.д., это все можно было в нем обнаружить, и этого я тогда не мог понять ([4])
Высокая нравственная оценка священнника – это только плод воспоминаний Антония, но когда Андрею Блуму было всего 13-14 лет, он искренне не понимал, почему так странно ведет себя этот человек. Мальчик не понимал и не принимал то, что давалось без борьбы, без схватки с жизнью.
Эта логика борьбы за существование и подвела его к еще одной черте в жизни – к решению покончить с собой, совершить самоубийство!
Эта мысль родилась… от счастья. От бессмысленного счастья, обнажившего всю пустоту существования. Он, его бабушка и мать перебрались в Буа-Коломбо, стали наконец жить вместе, и в течении двух-трех месяцев Андрей Блум испытывал состояние счастья, пока наконец не испугался его. Прежняя и привычная жизнь была для него тяжелой, но борьбой с целью выжить любой ценой: «…надо было знать, где переночуешь, надо было знать, как достать что-нибудь, что можно съесть, – вот в таком порядке. А когда вдруг оказалось, что всей этой ежеминутной борьбы нет, получилось, что жизнь совершенно опустела, потому что можно ли строить всю жизнь на том, что бабушка, мама и я друг друга любим – но бесцельно? Что нет никакой вечности, никакого будущего, что вся жизнь в плену двух измерений: времени и пространства, – а глубины в ней нет; может быть, какая-то толщина есть, она может какие-то сантиметры собой представлять, но ничего другого, дно сразу. И представилось, что если жизнь бессмысленна, как мне вдруг показалось, – бессмысленное счастье, – то я не согласен жить. И я себе дал зарок, что, если в течение года не найду смысла жизни, я покончу жизнь самоубийством, потому что я не согласен жить для бессмысленного, бесцельного счастья» ([5]) .
Выходу из душевного кризиса помог отец, сам находившийся в глубоком кризисе.
Он человек был очень мужественный, твердый, бесстрашный перед жизнью; помню, как-то я вернулся с летнего отдыха, и он меня встретил и сказал: «Я о тебе беспокоился этим летом». Я полушутливо ему ответил: «Ты что, боялся, как бы я не сломал ногу или не разбился?». Он ответил: «Нет. Это было бы все равно. Я боялся, как бы ты не потерял честь». И потом прибавил: «Ты запомни: жив ты или мертв – это должно быть совершенно безразлично тебе, как это должно быть безразлично и другим; единственное, что имеет значение, это ради чего ты живешь и для чего ты готов умереть». И о смерти он мне раз сказал вещь, которая мне осталась и потом отразилась очень сильно, когда он сам умер; он как-то сказал: «Смерть надо ждать так, как юноша ждет прихода своей невесты». И он жил один, в крайнем убожестве; молился, молчал, читал аскетическую литературу и жил действительно совершенно один, беспощадно один, я должен сказать. У него была малюсенькая комнатушка наверху высокого дома, и на двери у него была записка: «Не трудитесь стучать: я дома, но не открою». Помню, как-то я к нему пришел, стучал: папа! это я!.. Нет, не открыл. Потому что он встречался с людьми только в воскресные дни, а всю неделю шел с работы домой, запирался, постился, молился, читал.
И вот, когда я решил кончать самоубийством, за мной было: эти какие-нибудь две фразы моего отца, что-то, что я улавливал в нем, странное переживание этого священника (непонятная по своему качеству и типу любовь) – и все, и ничего другого ([6])
Однажды случилось так, что его и других мальчиков лагеря буквально заставили пойти на встречу со священником. Никто из них не знал, что с ними согласился побеседовать отец Сергий (Булгаков), известный участник модернистского движения в дореволюционной России, автор многих философских сочинений. Руководитель лагеря уговаривал Андрея Блума: «Я же тебя не прошу слушать! Ты сиди и думай свою думу, только будь там». Андрей Блум и не собирался слушать, но голос священника был громкий, и поневоле он слышал, о чем шла речь.
Речь священника вызвала у него ярость! Негодование! Отец Сергий говорил с ребятами, как с маленькими зверятами, упоминая «все сладкое, что можно было найти в Евангелие, от чего как раз мы шарахнулись бы, и я шарахнулся: кротость, смирение, тихость – все рабские свойства, в которых нас упрекают, начиная с Ницше и дальше».
Эта логика борьбы за существование и подвела его к еще одной черте в жизни – к решению покончить с собой, совершить самоубийство!
Эта мысль родилась… от счастья. От бессмысленного счастья, обнажившего всю пустоту существования. Он, его бабушка и мать перебрались в Буа-Коломбо, стали наконец жить вместе, и в течении двух-трех месяцев Андрей Блум испытывал состояние счастья, пока наконец не испугался его. Прежняя и привычная жизнь была для него тяжелой, но борьбой с целью выжить любой ценой: «…надо было знать, где переночуешь, надо было знать, как достать что-нибудь, что можно съесть, – вот в таком порядке. А когда вдруг оказалось, что всей этой ежеминутной борьбы нет, получилось, что жизнь совершенно опустела, потому что можно ли строить всю жизнь на том, что бабушка, мама и я друг друга любим – но бесцельно? Что нет никакой вечности, никакого будущего, что вся жизнь в плену двух измерений: времени и пространства, – а глубины в ней нет; может быть, какая-то толщина есть, она может какие-то сантиметры собой представлять, но ничего другого, дно сразу. И представилось, что если жизнь бессмысленна, как мне вдруг показалось, – бессмысленное счастье, – то я не согласен жить. И я себе дал зарок, что, если в течение года не найду смысла жизни, я покончу жизнь самоубийством, потому что я не согласен жить для бессмысленного, бесцельного счастья» ([5]) .
Выходу из душевного кризиса помог отец, сам находившийся в глубоком кризисе.
Он человек был очень мужественный, твердый, бесстрашный перед жизнью; помню, как-то я вернулся с летнего отдыха, и он меня встретил и сказал: «Я о тебе беспокоился этим летом». Я полушутливо ему ответил: «Ты что, боялся, как бы я не сломал ногу или не разбился?». Он ответил: «Нет. Это было бы все равно. Я боялся, как бы ты не потерял честь». И потом прибавил: «Ты запомни: жив ты или мертв – это должно быть совершенно безразлично тебе, как это должно быть безразлично и другим; единственное, что имеет значение, это ради чего ты живешь и для чего ты готов умереть». И о смерти он мне раз сказал вещь, которая мне осталась и потом отразилась очень сильно, когда он сам умер; он как-то сказал: «Смерть надо ждать так, как юноша ждет прихода своей невесты». И он жил один, в крайнем убожестве; молился, молчал, читал аскетическую литературу и жил действительно совершенно один, беспощадно один, я должен сказать. У него была малюсенькая комнатушка наверху высокого дома, и на двери у него была записка: «Не трудитесь стучать: я дома, но не открою». Помню, как-то я к нему пришел, стучал: папа! это я!.. Нет, не открыл. Потому что он встречался с людьми только в воскресные дни, а всю неделю шел с работы домой, запирался, постился, молился, читал.
И вот, когда я решил кончать самоубийством, за мной было: эти какие-нибудь две фразы моего отца, что-то, что я улавливал в нем, странное переживание этого священника (непонятная по своему качеству и типу любовь) – и все, и ничего другого ([6])
Однажды случилось так, что его и других мальчиков лагеря буквально заставили пойти на встречу со священником. Никто из них не знал, что с ними согласился побеседовать отец Сергий (Булгаков), известный участник модернистского движения в дореволюционной России, автор многих философских сочинений. Руководитель лагеря уговаривал Андрея Блума: «Я же тебя не прошу слушать! Ты сиди и думай свою думу, только будь там». Андрей Блум и не собирался слушать, но голос священника был громкий, и поневоле он слышал, о чем шла речь.
Речь священника вызвала у него ярость! Негодование! Отец Сергий говорил с ребятами, как с маленькими зверятами, упоминая «все сладкое, что можно было найти в Евангелие, от чего как раз мы шарахнулись бы, и я шарахнулся: кротость, смирение, тихость – все рабские свойства, в которых нас упрекают, начиная с Ницше и дальше».
Андрей Блум отправился после лекции домой, чтобы прочитать Евангелие – «проверить и покончить с этим», как он потом определил свое состояние глубочайшего раздражения.
И вот я у мамы попросил Евангелие, которое у нее оказалось, заперся в своем углу, посмотрел на книжку и обнаружил, что Евангелий четыре, а раз четыре, то одно из них, конечно, должно быть короче других. И так как я ничего хорошего не ожидал ни от одного из четырех, я решил прочесть самое короткое. И тут я попался; я много раз после этого обнаруживал, до чего Бог хитер бывает, когда Он располагает Свои сети, чтобы поймать рыбу; потому что прочти я другое Евангелие, у меня были бы трудности; за каждым Евангелием есть какая-то культурная база; Марк же писал именно для таких молодых дикарей, как я, - для римского молодняка. Этого я не знал – но Бог знал. И Марк знал, может быть, когда написал короче других…
И вот я сел читать; и тут вы, может быть, поверите мне на слово, потому что этого не докажешь. Со мной случилось то, что бывает иногда на улице, знаете, когда идешь – и вдруг повернешься, потому что чувствуешь, что кто-то на тебя смотрит сзади ([7])
Прерву чтение этой исповеди, чтобы сообщить о больших медиумических способностях Антония, митрополита Сурожского: многие люди говорили, что он был способен буквально угадывать мысли…
Прерву чтение этой исповеди, чтобы сообщить о больших медиумических способностях Антония, митрополита Сурожского: многие люди говорили, что он был способен буквально угадывать мысли…
…я сидел, читал, и между началом первой и началом третьей глав Евангелия от Марка, которое я читал медленно, потому что язык был непривычный, вдруг почувствовал, что по ту сторону стола, тут, стоит Христос… И это было настолько разительное чувство, что мне пришлось остановиться, перестать читать и посмотреть. Я долго смотрел; я ничего не видел, не слышал, чувствами ничего не ощущал. Но даже когда смотрел прямо перед собой на то место, где никого не было, у меня было то же самое яркое сознание, что тут стоит Христос, несомненно. Помню, что я тогда откинулся и подумал: если Христос живой стоит тут – значит, это воскресший Христос. Значит, я знаю достоверно и лично, в пределах моего личного, собственного опыта, что Христос воскрес и, значит, все, что о Нем говорят, - правда ([8])
Его поразило отношение Бога к человеку – бережное, уважительное. Андрей Блум понял, что, «если люди готовы друг друга затоптать в грязь, то Бог этого никогда не делает».
Обретая веру в Христа, Андрей уже не хотел соперничать ни с кем за право жить. Его духовное перерождение открыло ему, что злоба и жестокость в отношениях людей, наверно, не исчезнут, а жажда власти, богатства, славы будет, возможно, и нарастать, – но в вере Христовой человек обретает право не только жить по другим законам, но и передавать этот опыт жизни людям, чтобы они не чувствовали себя одинокими и брошенными: ведь где-то совсем рядом стоит невидимый Христос и надеется на каждого…
В начале войны, когда Блум служил в военном госпитале, его исключили из офицерского собрания за проступок, который унижал «офицерское достоинство». За что? «За то, что мне досталась больничная палата, в которой печка не действовала, и санитары отказались ее чистить; я сбросил форму, вычистил печку и принес уголь». За это его наказали.
«Это пример ничем не величественный, нелепый, – вспоминал Антоний, – и конечно, я был прав, потому что гораздо важнее, чтобы печка грела больничную палату, чем все эти погонные вопросы» ([9])
Андрей Блум превращался в Антония: в этой духовной коллизии на смену идее борьбы за существование приходила мысль о законах бытия «не от мира сего». Своими проповедями, необыкновенной искренностью он обращал в православную веру даже самых упрямых противников религии и Бога.
Однажды я представил себя на месте такого противника и попытался понять: как же удавалось Антонию столь убедительно доказывать бытие Божие тому, кто привык мыслить идеальный порядок лишь по земным меркам. Как обывателю поведать о Боге, которого он принял бы только как успешного и эффективного менеджера, а не лузера?
Обретая веру в Христа, Андрей уже не хотел соперничать ни с кем за право жить. Его духовное перерождение открыло ему, что злоба и жестокость в отношениях людей, наверно, не исчезнут, а жажда власти, богатства, славы будет, возможно, и нарастать, – но в вере Христовой человек обретает право не только жить по другим законам, но и передавать этот опыт жизни людям, чтобы они не чувствовали себя одинокими и брошенными: ведь где-то совсем рядом стоит невидимый Христос и надеется на каждого…
В начале войны, когда Блум служил в военном госпитале, его исключили из офицерского собрания за проступок, который унижал «офицерское достоинство». За что? «За то, что мне досталась больничная палата, в которой печка не действовала, и санитары отказались ее чистить; я сбросил форму, вычистил печку и принес уголь». За это его наказали.
«Это пример ничем не величественный, нелепый, – вспоминал Антоний, – и конечно, я был прав, потому что гораздо важнее, чтобы печка грела больничную палату, чем все эти погонные вопросы» ([9])
Андрей Блум превращался в Антония: в этой духовной коллизии на смену идее борьбы за существование приходила мысль о законах бытия «не от мира сего». Своими проповедями, необыкновенной искренностью он обращал в православную веру даже самых упрямых противников религии и Бога.
Однажды я представил себя на месте такого противника и попытался понять: как же удавалось Антонию столь убедительно доказывать бытие Божие тому, кто привык мыслить идеальный порядок лишь по земным меркам. Как обывателю поведать о Боге, которого он принял бы только как успешного и эффективного менеджера, а не лузера?
И я нашел одно удивительное место в его рассуждениях, которое не могу забыть, ибо считаю, что это, может быть, главное доказательство существования Бога…
Я представил себе, как Антоний, глядя в глаза собеседнику, по-отечески ласково говорил:
Я представил себе, как Антоний, глядя в глаза собеседнику, по-отечески ласково говорил:
…Бога, каким Он открывается в Воплощении, выдумать невозможно, потому что никто не станет приписывать Богу такие свойства, от которых делается стыдно: Бог уязвимый, Бог побежденный, Бог униженный, Бог засуженный земным судом, битый по ланитам, Бог, Который являет какую-то непостижимую немощь и непонятное бессилие… Такого Бога выдумать никто не может, никто не станет. Бога, если уж выдумывать, то Такого, который был бы опорой, идеалом, Который был бы таков, чтобы в случае нужды к Нему обращаться в уверенности, что Он поможет, что Он будет, как стена, стоять между горем и опасностью или нуждой и мной. Но Такого Бога, Который принимает на Себя всю беззащитность, всю немощь, всю уязвимость, всю кажущуюся побежденность, мог «выдумать» (если можно так выразиться) только сам Бог, мог явить только Бог. <…> И только потому, что Бог Себя таким явил, мы можем Его таким знать; выдумать такого Бога человек не захотел бы ([10])
Всю жизнь Антоний искал в человеке Бога… Но он также искал в Боге человека, и обретал Его не в силе и власти, а в человеческой немощи, даже в слабости… Антоний заговорил с людьми на языке, который более всего похож на язык апостолов – простой, человечный, вдумчивый, парадоксальный. Ему был дан большой силы талант – убеждать людей своей искренней верой и просто феноменальной способностью глубоко и точно выражать свои мысли. Он говорил:
«…мы должны поверить в человека верой такой же, какой мы верим в Бога, такой же абсолютной, решительной, страстной и должны научиться прозревать в человеке образ Божий, святыню, которую мы призваны привести обратно к жизни и к славе, так же, как реставратор призван вернуть к славе икону испорченную, затоптанную, простреленную, которую ему дают. Это начинается с нас самих, но это должно тоже быть обращено к другим; и к другим христианам, которых мы так легко судим, и к нашим самым близким, дорогим. И к инакомыслящим» ([11])
…Я возвращался из центра города в гостиницу по уютной краковской улице с твердым намерением выйти вечером (14 июня 2013 г.) на связь с Антонием, и спросить станцию «Санчита» об уровне его пребывания в Тонком мире. Не знаю почему, но я спросил так: на каком уровне в ТМ пребывают патриарх Алексий Второй и Антоний, митрополит Сурожский. Пришел быстрый ответ: «на третьем уровне, на пятом». Патриарх оказался там, куда попадают обычные люди, не совершившие преступлений, а митрополит Антоний вознесся на тот уровень, о котором можно сказать только одно – это, по нашим земным меркам, райское жилище, очень высокий уровень, заоблачный, и там могут находится только праведники, заслужившие неземную радость бытия…
…Я возвращался из центра города в гостиницу по уютной краковской улице с твердым намерением выйти вечером (14 июня 2013 г.) на связь с Антонием, и спросить станцию «Санчита» об уровне его пребывания в Тонком мире. Не знаю почему, но я спросил так: на каком уровне в ТМ пребывают патриарх Алексий Второй и Антоний, митрополит Сурожский. Пришел быстрый ответ: «на третьем уровне, на пятом». Патриарх оказался там, куда попадают обычные люди, не совершившие преступлений, а митрополит Антоний вознесся на тот уровень, о котором можно сказать только одно – это, по нашим земным меркам, райское жилище, очень высокий уровень, заоблачный, и там могут находится только праведники, заслужившие неземную радость бытия…
Сеанс связи (14 июня 2013 г.) был недолгим: я, откровенно говоря, не очень представлял себе, о чем спрашивать. Точнее сказать, слишком много всего, о чем можно спросить, но трудно было уловить, что же главное… И тут я вспомнил, как интересно и весело об Антонии рассказывал мне один мой добрый друг, священник. Он в свое время учился в английской школе под Лондоном и приезжал к Антонию на воскресную литургию. Его рассказ я хорошо запомнил, но когда писал этот очерк, испугался, что расскажу неточно. Я попросил его написать, как состоялась их первая встреча. Он выполнил мою просьбу. И дал мне свой письменный рассказ об этом важном событии в его жизни. Тогда, в Кракове, я думал о встрече этих людей, и мне было интересно, что же Антоний скажет, – после перехода в Иной мир, оттуда – из Рая, если я вдруг спрошу: «а помнит ли он?..». Помнит ли юношу, который хотел, наверно, как и он в молодости, найти себя целиком в христианской жизни, и даже спрашивал Антония о пострижении в монахи, но митрополит не одобрил это, увидев в молодом, очень воспитанном, образованном человеке много такого, чем он еще будет полезен людям в миру…
Приведу полностью воспоминание священника:
Мне было пятнадцать лет, когда я осознанно (и тайком от родителей) принял крещение в московском храме Воскресения словущего на Успенском вражке (теперь это снова Брюсов переулок, а тогда еще была улица Неждановой). Был 1989 год – смена эпох, начало «моды на церковь», но и период серьезного обращения многих и многих людей разных возрастов к православной вере всерьёз и надолго, на всю жизнь. Наверное, правы те, кто поздноперестроечные годы называет «Вторым Крещением Руси». По крайней мере, со мной вместе крестились еще два десятка человек – и так в ту пору бывало ежедневно.
Так совпало, что вскоре после крещения мне предстояло на два с лишним года уехать в Англию по школьному обмену. Тоже диковинное ещё было явление. В храм я стал ходить регулярно, к одному из священников старался почаще попадать на исповедь. И в одну из исповедей сказал ему, что переживаю, как буду исповедоваться и причащаться в неправославной Англии. «Да что ты! - воскликнул отец Владимир Ригин, - там же владыка Антоний – святой человек, великий архипастырь».
О митрополите Сурожском Антонии я тогда ничего не знал, книг его не читал (да они ещё и не были опубликованы в России), по радио его не слушал. Поэтому рекомендация московского священника была для меня нейтрально-умозрительной: ну Антоний и Антоний…
Спустя довольно долгое время после приезда в Англию, да и то не без приключений, я смог выполнить совет, данный мне в Москве. Оказавшись в Лондоне, я попросил дядю моего одноклассника-англичанина, гостем которого мы с одноклассником были в тот уик-энд, свозить меня в русскую церковь. Автомобильных навигаторов в то время ещё не было, в машине у лондонского дядюшки моего друга была карта, которая имела вид викторианской – правда, Лондон мало изменился со времён королевы Виктории. Мы ездили кругами в районе Knightsbridge, никак не могли найти русский собор. Лондонский дядюшка в изнеможении воскликнул: «Здесь рядом армяно-григорианский храм. Может, туда?» Но я настаивал на своём.
Наконец нашли. Абсолютно англиканской архитектуры, храм снаружи ничем не напоминал русскую церковь. И самое печальное, что он оказался заперт. Мы уже с грустью (хотя мои спутники – наверняка с облегчением) пошли обратно к машине, когда нас окликнула средних лет англичанка: «Если вы хотите попасть в церковь, то вы звоните в звонок боковой двери». Мы позвонили. Очень скоро нам открыл дверь пожилой сторож в поношенном чёрном подряснике. Встретил необычным вопросом: «What language do you speak?» Стал говорить с моими спутниками по-английски, пригласил нас в храм, вручил спутникам свечи – и только тогда начал говорить со мной. Мы говорили минут сорок. Неведомый мой собеседник-сторож спрашивал сколько мне лет, как оказался в Англии, кем собирался стать в жизни и т.д. Потом снова перешёл на английский, когда дядя и племянник к нам вернулись, поставив свечи. Разговор вчетвером был в общем-то ни о чём; по крайней мере, ни о чём серьёзном. Однако, необычное чувство переполняло меня: казалось, что старый седой сторож, говоря ни о чём, как будто считывает что-то сокровенное и глубокое с самых потаённых скрижалей моей души. Такого со мной раньше не бывало. Было ощущение, что он видит меня насквозь, и ещё более поразительное ощущение – что кроме нас с ним никого нет на свете, настолько поразительно сосредоточенным на собеседнике был этот странный человек.
Запомнилась фраза в конце разговора: «А теперь будет вот что. Теперь я буду вынужден вас отпустить, потому что меня уже ждут». И свой ответ помню: «Как жаль, что мне не удалось повидать владыку Антония…» И его молчаливая сияющая улыбка мне в ответ.
Так совпало, что вскоре после крещения мне предстояло на два с лишним года уехать в Англию по школьному обмену. Тоже диковинное ещё было явление. В храм я стал ходить регулярно, к одному из священников старался почаще попадать на исповедь. И в одну из исповедей сказал ему, что переживаю, как буду исповедоваться и причащаться в неправославной Англии. «Да что ты! - воскликнул отец Владимир Ригин, - там же владыка Антоний – святой человек, великий архипастырь».
О митрополите Сурожском Антонии я тогда ничего не знал, книг его не читал (да они ещё и не были опубликованы в России), по радио его не слушал. Поэтому рекомендация московского священника была для меня нейтрально-умозрительной: ну Антоний и Антоний…
Спустя довольно долгое время после приезда в Англию, да и то не без приключений, я смог выполнить совет, данный мне в Москве. Оказавшись в Лондоне, я попросил дядю моего одноклассника-англичанина, гостем которого мы с одноклассником были в тот уик-энд, свозить меня в русскую церковь. Автомобильных навигаторов в то время ещё не было, в машине у лондонского дядюшки моего друга была карта, которая имела вид викторианской – правда, Лондон мало изменился со времён королевы Виктории. Мы ездили кругами в районе Knightsbridge, никак не могли найти русский собор. Лондонский дядюшка в изнеможении воскликнул: «Здесь рядом армяно-григорианский храм. Может, туда?» Но я настаивал на своём.
Наконец нашли. Абсолютно англиканской архитектуры, храм снаружи ничем не напоминал русскую церковь. И самое печальное, что он оказался заперт. Мы уже с грустью (хотя мои спутники – наверняка с облегчением) пошли обратно к машине, когда нас окликнула средних лет англичанка: «Если вы хотите попасть в церковь, то вы звоните в звонок боковой двери». Мы позвонили. Очень скоро нам открыл дверь пожилой сторож в поношенном чёрном подряснике. Встретил необычным вопросом: «What language do you speak?» Стал говорить с моими спутниками по-английски, пригласил нас в храм, вручил спутникам свечи – и только тогда начал говорить со мной. Мы говорили минут сорок. Неведомый мой собеседник-сторож спрашивал сколько мне лет, как оказался в Англии, кем собирался стать в жизни и т.д. Потом снова перешёл на английский, когда дядя и племянник к нам вернулись, поставив свечи. Разговор вчетвером был в общем-то ни о чём; по крайней мере, ни о чём серьёзном. Однако, необычное чувство переполняло меня: казалось, что старый седой сторож, говоря ни о чём, как будто считывает что-то сокровенное и глубокое с самых потаённых скрижалей моей души. Такого со мной раньше не бывало. Было ощущение, что он видит меня насквозь, и ещё более поразительное ощущение – что кроме нас с ним никого нет на свете, настолько поразительно сосредоточенным на собеседнике был этот странный человек.
Запомнилась фраза в конце разговора: «А теперь будет вот что. Теперь я буду вынужден вас отпустить, потому что меня уже ждут». И свой ответ помню: «Как жаль, что мне не удалось повидать владыку Антония…» И его молчаливая сияющая улыбка мне в ответ.

На следующий день, в воскресенье, я уговорил друзей-англичан снова привезти меня в собор. Сторож в чёрном подряснике «не отпускал» меня, весь остаток субботы я думал о нём, а ночью мне приснилась наша беседа, как будто вторым дублем прошла в сознании. Воскресным утром пришли к Литургии. Храм уже наполнился молящимися, открылись Царские врата иконостаса, сквозь которые я увидел спину митрополита – в архиерейском облачении, сверкающей митре, с жезлом. «Вот это и есть владыка Антоний – человек святой жизни», - подумал я, ожидая увидеть, когда митрополит обернётся к народу, величественное и властное лицо архипастыря. Он обернулся, вышел на амвон – и я увидел перед собой моего вчерашнего «сторожа».
С тех пор я не удивляюсь «литературному этикету» древнерусских житий святых, в которых общим местом является сюжет с неузнанным святым: посетитель поначалу не знает, с кем говорит… Со мной тогда случилось в точности такое. Только сердце знает, даже не ведая, кто перед тобой. Вот уж воистину: «И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» (Лк 24, 32).
Я задал митрополиту Антонию два вопроса: первый – что бы он хотел пожелать нам (это мой традиционный вопрос, и я до сих пор считаю его очень важным, ибо он дает возможность духовной сущности сказать что-то важное, о чем мы не знаем, или о том, что нам следует знать); следующий вопрос – о пытливом юноше, который к нему приходил…
С тех пор я не удивляюсь «литературному этикету» древнерусских житий святых, в которых общим местом является сюжет с неузнанным святым: посетитель поначалу не знает, с кем говорит… Со мной тогда случилось в точности такое. Только сердце знает, даже не ведая, кто перед тобой. Вот уж воистину: «И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» (Лк 24, 32).
Я задал митрополиту Антонию два вопроса: первый – что бы он хотел пожелать нам (это мой традиционный вопрос, и я до сих пор считаю его очень важным, ибо он дает возможность духовной сущности сказать что-то важное, о чем мы не знаем, или о том, что нам следует знать); следующий вопрос – о пытливом юноше, который к нему приходил…
На первый вопрос пришел очень интересный ответ, который я понял, как желание активного сотрудничества:
«Вот идейно породниться с вами»
и еще:
«Люби проклятых дальних»
и еще:
«Люби проклятых дальних»
В моем другом вопросе – «помнит ли он его?..» – было, конечно, что-то дерзкое, ибо я спрашивал человека, который перешел в Иной мир в преклонном возрасте. Правда, во время сеанса я не помнил точно, сколько ему было лет, когда он умер. Антоний, обладавший в земной жизни большим чувством юмора, ответил сообразно вопросу – с доброй иронией:
«Склероз – 89!»
Поразительно, что он назвал точное количество своих земных лет, будто и не было перехода в Тонкий мир, будто время остановилось, и ему сейчас – столько же! Ну, чего вы хотите от «старика»!...
Но сразу же после этого он ответил серьезно, и несколько раз, разными словами, повторил, что конечно помнит: ничего не забывает, и ничего не забывается Там, в заоблачных высотах Тонкого мира. Личность не теряет земную память, она полностью сохраняется; не забываются и те эмоции, которые испытывал человек в отношении к кому-либо.
«Хорошо помню его!»
Эти слова произносятся ясным голосом, который очень похож на голос митрополита Антония, в нем меньше электронности и больше той интонации, которая – при всех звуковых изменениях – узнаваема.
«Прекрасно помню!»
Но помнить можно по-разному: возможен (теоретически) и такой смысл: прекрасно помню… но человек никудышный… Я не сомневался, что Антоний полюбил юношу из России, и увидел в нем то, что всегда искал в человеке, – образ Божий.
Я не ошибся. Из всех свойств запомнившейся ему личности он упомянул, наверно, главное свойство, без которого и прочие не существенны.
«Он честный – это серьезно!»
И будто опасаясь, что я не услышу его лестных слов о человеке, которого он «прекрасно помнит» – еще раз:
«Честность – это конкретно его!»
…В контактах всегда кто-то кому-то дает характеристики. Так и в этот раз – кто-то сказал об Антонии:
«Он пером умеет править как царь!»
Я оценил, насколько точна эта характеристика! Хорошо известно, что Антоний никогда не писал своих речей (в зрелом возрасте): он их только диктовал. Его устная речь была настолько совершенна и правильна, что невольно вспоминался еще один великий подвижник церкви, который не писал, но говорил: его речи записывались, они становились совершенными образцами красноречия, – это Иоанн Златоуст. Так вот, как Иоанн Злотоуст, великий проповедник, Антоний говорил, глядя в лицо собеседника, в лица прихожан; он устанавливал душевный и зрительный контакт между собой и людьми – этот своеобразный мост доверия, дружбы, любви, сердечности, и редкий человек не хотел оказаться на этому мосту счастья…
Талант проповедника открылся не сразу – он обнаруживал себя по мере того, как Андрей Блум превращался в Антония, перетекая из мира сего в мир иных законов бытия, открекаясь от земного общежития и прикипая к небесной сущности человеческих отношений – ведь только в них Бог открывается человеку…
Можно даже более или менее точно определить время этого перевоплощения – в согласии с тем, что о себе сам рассказывал Антоний. Во время войны он принял постриг, а в 1948 году стал священником. В это время ему предложили уехать в Лондон на службу и Антоний согласился. Тот, кто ему предложил перебраться в Лондон, выслушал его первую лекцию на английском языке, подошел к нему и сказал: «Отец Антоний, я за всю жизнь ничего такого скучного не слыхал». Антоний стал оправдываться: «Что же делать, я английского не знаю, мне пришлось лекцию написать и читать как мог…» На что этот человек ответил властно: «Так вот я вам запрещаю отныне писать или по запискам говорить». Антоний возразил «Это же будет комично!» Ответ ему стал приговором: «Именно! Во всяком случае, это не будет скучно, мы сможем смеяться на ваш счет».
Антоний подвел итог: «И вот с тех пор произношу лекции, говорю и проповедую БЕЗ ЗАПИСОК – опять-таки на его душу».
Митрополит Сурожский говорил под запись, а потом легко правил свой текст: истинно, истинно, говорю вам, как «царь» правил «пером»!.. Об этом могут рассказать многие, если ни все, кто его лично знал…
Примечания
[1] Митрополит Антоний Сурожский. О встрече. СПб., 2002. С. 26-27.
[2] Там же, с. 33
[3] Там же.
[4] Там же, с. 34
[5] Там же, с. 35-36
[6] Там же, с. 36-37
[7] Там же, с. 38
[8] Там же, с. 39
[9] Там же, с. 46
[10] Там же, с. 163
[11] Там же, с. 117