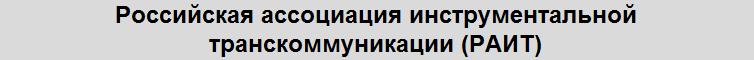Андрей Воинов
член РАИТ, исследователь ИТК (Москва)
Лев Толстой
(Контакты с Тонким миром)
Часть четвертая.
(начало: http://www.itc.org.ru/tolstoy_part1.htm
член РАИТ, исследователь ИТК (Москва)
Лев Толстой
(Контакты с Тонким миром)
Часть четвертая.
(начало: http://www.itc.org.ru/tolstoy_part1.htm
В начале июня 2016 г., находясь в Таллине, я продолжал думать о Толстом, о его посмертной судьбе, и чем больше вникал в его жизнь, тем больше удивлялся стойкости характера великого писателя. Я готовился писать очерк, хотя мысли мои были еще хаотичны. Трудность заключалась в том, что Толстой, по его же собственному признанию, изменился. И тот, кто ушел из Ясной Поляны – и тот, кто теперь со мной общается, личностно остается тем же, Львом Николаевичем, но уже не «первоклассником», а сильно «позврослевшим». Беседа моя продолжалась с тем Львом Толстым, который уже во многом является антагонистом самого себя в земной жизни. Вспомнилась даже народная поговорка: «Тот – да не тот».
1 июня 2016 г. я вышел в эфир.
Я спросил, – не будет ли против Лев Толстой, если я напишу о нем очерк? Пришел ответ, который свидетельствовал о доброте, учтивости собеседника – таким он был и в земной жизни, вежливым человеком:
«Я буду счастлив!»
Я остро ощущал, как тяжело будет писать о нем, о таком удивительном, могучем человеке, как трудно мне будет найти верную тональность – и главное: меня мучила мысль, а вдруг я сделаю ошибку, вдруг неверно пойму полученную информацию? Ответственность не малая – а личность Толстого огромная. Я не столько хотел заручиться поддержкой писателя, сколько успокоить самого себя: не бойся, я говорил себе, пиши! Наверно, от такого глубинного страха перед поставленной целью, я вел себя в контакте не уверенно, как бы оправдываясь перед Толстым за еще несовершенную ошибку: я говорил о значительности его личности, а получал ответы от того Толстого, который на эту, мною понятую его «значительность», отвечал, как повзрослевший человек – и со смехом, и с иронией, и даже с легким возмущением – против самого себя:
«Об удивительном жизненном пути – ужасном!»
«Честный, непримиримый – я сейчас умру от смеха!»
«Я был нехороший человек – гадкий – я и сейчас тут такой!»
«Я не прожил свою жизнь в любви!»
Впрочем, Лев Толстой тоже волновался – но по другому поводу: его окончательно «перевели» на четвертый уровень. Противоречие между низкой самооценкой и высоким уровнем оценки личности в ТМ – явный залог будущего развития.
«Я сейчас волнуюсь, меня перевели на четвертый уровень»
«У меня новая жизнь – роскошная, интересная!»
«Мы в согласии вместе и в любви!»
«У меня новая жизнь – роскошная, интересная!»
«Мы в согласии вместе и в любви!»
Я задал ему вопрос, похож ли его дом в Тонком мире на усадьбу в Ясной Поляне. Он ответил мне ассиметрично:
«Ты в Ясной Поляне был – и я тебя запомнил!»
Меня поразил этот ответ, – ведь несколько лет назад я действительно ездил на машине в Ясную Поляну. Был жаркий летний день, и я искал могилу Толстого, о которой знал, что она как бы и не могила, а бугорок – насыпь, которую завещал писатель оставить после его смерти, не желая земных почестей – и даже таблички об усопшем. Всемирно известный писатель, гений – и бугорок от всего «благодарного человечества»: непостижимо! Но мысль моя все же шла по толстовскому пути – по пути протеста. Я ощущал тогда, что Толстой ушел не из жизни, а из страны: в самом большом человеческом смысле он устал быть в той стране, которая не понимала его и не жалела. Где-то рядом с «бугорком» я сидел на скамейке и грустные мысли меня не оставляли. Но эта грусть была обнадеживающей!
Я еще ничего не знал об инструментальной транскоммуникации, но за несколько лет до ее открытия ощущал уже, и в разных странах пребывания, и в разных душевных состояниях личного пространства, потребность того высшего смысла жизни, о котором так много думал Лев Толстой.
12 июня 2016 г. я вновь вышел в эфир.
Меня вдруг поразила такая мысль: Пушкин тоже на четвертом уровне (см. мой очерк о нем). Значит, два гения русской культуры могут встретиться и поговорить друг с другом, преодолевая такую условность, как время!
Я спросил Толстого: а вы хотели бы встретиться с Пушкиным?
И оказалось, что такой возможности нет пока у Толстого. Оптимистично прозвучало «пока».
«А вы хотели бы встретиться с Пушкиным – у меня пока нет возможности»
Предполагая такой ответ, я обратился к Пушкину с вопросом – а он знает о писателе Толстом? И великий поэт ответил:
«Он страшно талантливый!»
Толстой меня упрекнул:
«Напрасно вы его растревожили!»
Однако растревоженный поэт дал максимально точную характеристику прозы Толстого:
«Он безумно конкретный!»
Пушкин это наша своеобразная русская античность, красота его прозы почти скульптурная, в ней нет потребности изучать внутренности, детали жизненного процесса. Мистика Пушкина – это тоже своеобразно-античное отношение к мирозданию, в котором, помимо прекрасного человека, пребывает и какая-то романтическая Тайна его бытия. Язык прозы Толстого – совсем другой, не романтический: это разъятие жизни на составляющие элементы и собирание разъятых частей заново – в новом свете, писательском. Это можно сравнить с хирургическим вмешательством, которое намерено вскрыть тело, изучить внутренние органы, и увидеть то место, которое доставляет жизненную боль, чтобы потом восстановить жизненный процесс с новым отношением к выявленной (в ходе операции) болезни.
Пушкин читал и знает произведения Толстого. Значит, он читал и знает его повесть «Два гусара»…
Пушкин никогда не стал бы так углубляться в литературное анатомирование жизни, с таким запредельно большим количеством описываемых деталях, как будто это не повесть – а медленное кино, которое почти буквально показывает прошлую жизнь. Толстой описывал в этой повести ушедшую навсегда пушкинскую эпоху:
«В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время, – в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики, - когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков; когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света, - в наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных, - в губернском городе К. был съезд помещиков и кончались дворянские выборы» (Толстой Л. «Два гусара»).
Осенью 2015 г. я был приглашен театральным режиссером В.А. Рыжаковым в качестве научного консультанта к постановке спектакля в Большом драматическом театре имени Георгия Александровича Товстоногова (БДТ). Талантливый мастер решил поставить спектакль по роману Толстого «Война и мир». Эта идея мне показалась весьма рискованной, – слишком велик объем произведения. Однако Рыжаков объяснил, что найден ключ, при помощи которого можно сократить дистанцию, – идея заключалась в том, чтобы показать в самом начале, как современный музейный работник (Алиса Фрейндлих) читает роман перед аудиторией, рассказывая о том, случилось с Наташей Ростовой, – этот локальный взгляд «от героини» исходящий, стремительно расширяется и охватывает других персонажей романа, вокруг семьи Ростовых складывается эпицентр главных событий. Сам же спектакль был задуман, как «путеводитель» по роману.
Музейный работник, постаревшая дама, не очень опрятная даже – иносказательно сама Наташа Ростова, она читает отрывки из романа, погружая зрителей в процесс воскрешения давно знакомых сцен и страниц романа. Такой режиссерский взгляд оказался новаторским и неожиданным.
На пару дней, в первой декаде ноября 2015 г., я приехал в БДТ, чтобы рассказать актерам творческую историю романа, объяснить смысл толстовской литературной задачи.
Мне хотелось донести до актеров одну мысль, которую я считал и считаю важной в понимании романа – в нем нет разделения на войну как состояние фронта и на мир как жизненное состояние без войны. Неверно думать, что война – это драка, смерть, грязь, а мир – это салон Анна Павловны Шерер.
Толстой видел войну и мир – в одном и том же месте – в душе человека. Именно в ней разыгрывалась настоящая драма, в ней прозревали люди, в ней разгорались страсти.
С моей точки зрения роман Толстого, говорил я актерам, не исторический: слишком много в нем несовпадений с контекстом 1812 года и даже сознательных ошибок писателя, который явно не хотел повторять «то, что было». Он хотел воссоздать некую, почти библейскую, притчу о человеке, который ищет и находит самого себя в условиях духовно и личностно переживаемых войны и мира. Толстой разъял огромный пласт жизни людей, вытащил из нее все ее страдания, болячки, искания, тревоги, страхи, пороки, чтобы затем, воскрешая эту жизнь, сделать понятной простую истину – человек находит самого себя, когда в небе видит, подобно Андрею Болконскому, гармонию разумной вечности, умиротворяющей все земные страсти…
В романе «Война и мир» уже видна проекция толстовского пути в «Исповедь», направленная против личности, слишком эгоистичной, слишком мятущейся, слишком заботящейся о личном, тогда как ценностью обладает превыше личности находящееся «разумное сознание» (в «Войне и мире» это сознание народное).
Я позволил себе сказать, что сам писатель, так любивший свой народ, никогда не мог понять его непосредственно, и все его попытки найти душевный и умственный контакт, оборачивались крахом. Наверно поэтому в романе видна беспощадная анатомия правящего класса, столь знакомого писателю, и вполне лубочно выглядят герои народные, простые люди…
14 декабря 2015 г. в питерском БДТ шел очередной премьерный показ спектакля, я был в Москве, и вдруг меня осенила странная мысль, – а почему бы не спросить самого Толстого: нравится ли ему спектакль? Ведь границы наших миров – условны, с их стороны мы просвечиваемся, как в рентгеновском кабинете…
Я вышел в эфир.
Вопрос – только один: нравится ли спектакль? На всякий случай я дважды повторил свой вопрос:
«Вам нравится спектакль – хороший спектакль!»
«Вам нравится спектакль – я очень доволен!»
«...который сейчас идет – удовольствие огромное!»
«Я получил огромную радость!»
«Я с удовольствием смотрю!»
«Вам нравится спектакль – я очень доволен!»
«...который сейчас идет – удовольствие огромное!»
«Я получил огромную радость!»
«Я с удовольствием смотрю!»
Меня порадовала реакция Льва Толстого на саму творческую находку театрального мастера:
«С Наташей – это хорошо!»
Толстой оказался еще более осведомленным, чем я думал – он похвалил меня за то, что я «хорошо сказал» о нем в ноябре, «месяц назад», как уточнил сам писатель:
«Ты хорошо сказал обо мне – месяц назад в Питере!»
Если бы я заранее знал, что Толстой слышит меня, я бы не произнес ни слова… Мое объяснение мне сразу показалось бы тщетным и самоуверенным.
И вновь в эфир хлынули его личные переживания:
«Я прожил отвратную жизнь»
Кто-то прокомментировал:
У него шрам людской жизни!»
Какой же смысл увидел Толстой в этом спектакле? Не могу сказать, что мне до конца понятны прозвучавшие его слова, но я ощущаю в них глубочайший смысл, восходящий к тем небесам, которые так притягивали к себе героев романа «Война и мир»:
«Хороший спектакль – как мы дрогнули в любви!»
(продолжение следует)