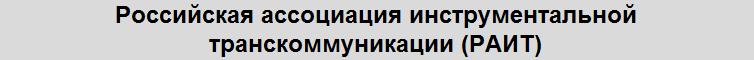Андрей Воинов
член РАИТ, исследователь ИТК (Москва)
Лев Толстой
(Контакты с Тонким миром)
Часть первая.
член РАИТ, исследователь ИТК (Москва)
Лев Толстой
(Контакты с Тонким миром)
Часть первая.
Георгию Георгиевичу Тараторкину посвящается
17 мая 2013 г. в Санкт-Петербурге состоялся один из первых моих контактов со станцией «Санчита»: я специально приехал из Москвы, чтобы повидать Артема Валерьевича Михеева, президента РАИТа, и получить от него указания, как обращаться с техникой во время сеанса. Мы вышли в эфир, и я хорошо помню, что для меня личностью, интригующей едва ли не больше всех других, был Лев Николаевич Толстой. Знание о его местонахождении в Тонком мире позволило бы понять один из главных конфликтов не только в русской истории и культуре, но и в мировой тоже.
Великий писатель, подвижник, правдоискатель, мыслитель, ставший частью мирового наследия, осужден земной церковью – отлучен от нее. И хотя Толстой не был предан анафеме, как думают многие, но печать отверженного осталась в его жизни навсегда: ожидаемых слов покаяния никто от него не услышал, и в мир иной великий писатель ушел так же, как из Ясной Поляны – не попрощавшись.
Сведения об уровнях Тонкого мира, полученное от Фридриха Майерса, и многократно подтвержденные контактами с духовным миром, где пребывает та или иная личность – это одновременно и знание о том, имеет ли влияние земной суд на суд небесный или не имеет. Меня волновала не только судьба Льва Толстого, но и та связь с духовным миром, которая мыслится нами, когда мы говорим о посмертной участи человека. Совпадают ли критерии здесь и там ? Впрочем, я понимал, конечно, что критерии там мне никогда не будут доступны прямо и непосредственно, речь может идти лишь о последствиях небесного суда, но не о «судопроизводстве» – величайшей и непостижимой тайне мироздания.
Сеанс связи был не очень удачным – в записи оказалось много постороннего шума, и хотя мы пытались найти отзвук вечности, но сделать это не удалось. Я утешал себя тем, что приехал в северную столицу не с целью получить информацию о Толстом, а для того, чтобы научиться работать с аппаратурой. Эта цель была достигнута – и в тот же день я покинул Санкт-Петербург.
Спустя три года, задумав писать о Толстом, и имея уже немало контактов с ним лично, я вспомнил о первой записи, и решил потратить много времени (чего мы с А.В. Михеевым не могли себе позволить), чтобы попытаться еще и еще раз прислушаться к первой записи, – а вдруг мне повезет и я уловлю в шуме вечности его далекий голос?
Мне повезло: в записи, мягко говоря, среднего качества, я смог поймать (не лишнее тут вспомнить: благодаря А.В. Михееву, научившему меня это делать) слабый голос, едва-едва слышимый, - это был голос Льва Николаевича Толстого. Почему я решил, что это был именно его голос, а не кого-то, кто мог присоединиться к нашему контакту?
Не всякий человек способен так обличать себя… Это был его голос – не по голосовым качествам узнаваемый, а по свойству редкой, уникальной личности, всю жизнь страдавшей от собственных несовершенств, и по способу изобличения себя не только в миру, но и в своих бессмертных художественных произведениях – словом, везде…
«Я прожил подлую жизнь»
Я много думал о загадочной толстовской прозе, о его умении вовлечь читателя в непридуманную драму личности, и находил в его творчестве немало общего с покаяниями Аввакума…
После известного переворота конца 70-х годов, когда Лев Толстой пережил духовную революцию, увидев себя как бы со стороны и ужаснувшись, он находил такие слова исповеди, которые не могут не волновать всякого, в ком не удушен голос совести, – с аввакумовской предельностью в покаянии он как бы спрашивал: а ты, читатель, доволен своей жизнью, тебе не страшно?
И дрожь всегда пробивает меня от этой невероятной близости к чистому роднику человечности в «Исповеди» Толстого:
Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтоб убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяния всех родов, пьянство, насилие, убийство… Не было преступления, которого я бы не совершал, и за все это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком.
13 января 2015 г. я вновь попытался соединиться с великим писателем.
Меня по-прежнему волновал вопрос об уровне его пребывания в Тонком мире. Фридрих Майерс, великий подвижник в деле транскомунникации, перейдя в мир иной в 1901 г., смог оттуда передать (через автоматическое письмо медиумов) ценнейшую информацию об общем строении Тонкого мира, об уровнях пребывания в нем, что полностью признают на другой стороне во всех без исключения контактах. На вопрос об уровне того или иного лица – ответ всегда приходит «по Майерсу». К этому времени я знал, что никакого ада и рая, описанных в христианском Предании, нет в Тонком мире. Если человек жил в нравственном отношении плохо, то он застревает на втором уровне, – его не пускают в третий (средний) уровень, который иногда (со стороны духовного мира) называют «воскресением», или зоной отдыха. Третий уровень – это место для многих, не совершивших преступлений, и способных к дальнейшей эволюции. Но это уровень, куда сразу не попадет недостойная душа, отвергнутая Богом. На третьем уровне духовная сущность решает для себя вопрос, – идти наверх в своем развитии или возвращаться в земную жизнь, чтобы восполнить недостатки духовного состояния. Мой опыт общения с ТМ говорит о том, что большинство духовных сущностей стремится остаться в зоне отдыха или подыматься в новое измерение – четвертое, названное Майерсом уровнем Эйдоса.
Меня очень интересовало и интересует пребывание духовных сущностей на втором уровне. Нельзя сказать, что этот уровень однородный, в нем явно имеются свои степени дискомфорта, и не было ни одного голоса, который бы искренне говорил об удовлетворенности жизнью на этом низком этаже бытия. Более того, я уже знал, что в низовьях второго уровня существуют «тюрьмы» для отпетых негодяев, – едва ли такие же как земные, но мучительные и беспощадные, каких нет на земле.
Ада, как его описывают в христианской литературе, не существует в ТМ, его нет, как хранилища мерзостей и непотребств… с огнедышащими котлами для грешников, его нет, как внешнего наказания со стороны внешней силы, но мучения и страдания все же имеются. Они - следствие суда внутреннего, личного: это стыд, как огонь, сжигающий все непотребства прожитой жизни. Сжигание стыдом приносит муку, которую гораздо тяжелее переносить, чем физическую боль, – внешнюю по отношению к духовной сущности. Душа понимает, в чем состоял грех или преступление, но ничего изменить нельзя – как нельзя вернуться в собственную жизнь и переделать ее, хотя не запрещено учиться на ошибках этой жизни. Именно в такой момент многие несовершенные души осознают, сколь горестна их судьба, и решаются на то, чтобы повторить снова жизненный путь, но в другом теле.
Я знал уже, что реинкарнация существует, и она, непризнанная христианской Церковью – постулат для Тонкого мира, в котором нет и не может быть никакого "стояния на месте" или "лежания на полке вплоть до дня Страшного Суда", потому что у Бога нет мертвых, и всё живое пребывает в движении, в развитии, в самосовершенствовании –это закон Божий…
После того, как Льва Толстого отлучили от церкви, в некоторых местах Империи появились даже настенные изображения, демонстрирующие как граф горит в адском огне. Так, в селе Тазово, в церкви иконы Божией Матери «Знамение» Курской губернии, была росписана западная стена, где изображался Лев Толстой горящим в адском пламени – и видно, как ужасаются деятели русской православной церкви, понимая, что граф остался в руках Сатаны.

Со многими критическими мыслями Толстого я солидарен, но в одном пункте его рассуждений о религии не согласен категорически, потому что твердо знаю по опыту контактов с ТМ, что личность после смерти не исчезает, даже если ей уготована дорога на самый верх Тонкого мира.
Личное сознание – бессмертно.
Трудно сказать, почему так случилось, но духовный переворот Толстого конца 70-х гг. вел его по дороге совсем другой – к фактическому отрицанию высокого духовного статуса личности. То ли он сам себя так боялся, то ли пережил какие-то страшные минуты искушения – понять трудно, но и в «Исповеди» (1879 - 1882), и подобной ей книге «О жизни», математически точно отсекаются друг от друга два понятия – «разумное сознание» и «животная личность»:
Обнаружение истинной жизни состоит в том, что животная личность влечет к своему благу, разумное же сознание показывает ему невозможность личного блага и указывает какое-то другое благо.
Истинная жизнь человека, проявляющаяся в отношении его разумного сознания к его животной личности, начинается только тогда, когда пробуждается разумное сознание. (Толстой Л. «О жизни»).
Писатель противопоставлял разумное сознание и животную личность, не желая допускать даже мысли, что личность может стать настолько духовной, что это само по себе нисколько не отрицает духовный разум – напротив: тогда только он и явит себя, как разум.
Всей своей страстью убеждать Толстой обрушивался на читателя проповедью отказа от личного – ради духовной нирваны. Ибо личность, вся проникнутая животными потребностями, не имеет ни малейшего шанса остаться в вечности, страсти сами по себе умирают, зато духовный разум сливаясь с разумом Мировым, способен достичь состояния полнейшего покоя – соединения с Духом.
Толстой проповедовал вечную жизнь, но при условии, что личность умирает, – она должна умереть: ей нет места в вечности.
Ох, как не прост Лев Николаевич! Все продумал, обо всем позаботился, чтобы заранее ответить на все возражения читателя: …а какую личность вы хотите защищать, спрашивал он? Ту, которую вы ощутили в 7 лет, или ту, которая в ином теле с вами – например, в 59 лет?
Он писал:
Я жил 59 лет и во все это время я сознавал себя собою в своем теле, и это сознание себя собою, мне кажется, и была моя жизнь. Но ведь это только кажется. Я жил ни 59 лет, ни 59 000 лет, ни 59 секунд. Ни мое тело, ни время его существования нисколько не определяют жизни моего я. Если я в каждую минуту жизни спрошу себя в своем сознании, что я такое? я отвечу: нечто думающее и чувствующее, т.е. относящее к миру своим совершенно особенным образом. Только это я сознаю своим я, и больше ничего. <…> Мое сознание трехлетним ребенком и теперешнее сознание так же различны, как и вещество моего тела теперь и 30 лет тому назад. Сознания нет одного, а есть ряд последовательных сознаний, которое можно дробить до бесконечности (Толстой Л. «О жизни»).
Словом, нет и не может быть богоспасаемого личного сознания, но общий разум духовный, объединяющий личность на всем протяжении ее жизни – обязан быть: раз уж Я это Я.
Не будучи ехидным по природе, я все же хотел спросить Толстого о сохранности его личности, и если он мне ответит, – на что я расчитывал, конечно, – то это будет лучшим опровержением его теории о дискретности личного сознания и невозможности его сохранения в вечности.
У меня накопилось много вопросов к великому писателю, но главный вопрос все же крутился вокруг отлучения от церкви, – где теперь Лев Николаевич? что с ним?
В сеансе связи со станцией Санчита я спросил о главном – отразилось ли на посмертном пребывании в Тонком Мире его отлучение?
И пришли ответы, которых я не ожидал!
Я невольно встал со стула и стал нервно расхаживать по комнате... В моей голове продолжали звучать его ответы:
«Отразилось, да!»
«Та история, которую трудно забыть – да, отразилась!»
«Права оказалась церковь!»
Я спрашивал по традиции – без этого вопроса у меня не бывает контакта – что бы вы пожелали нам?
«Правды!»
…Расхаживая по комнате, я понимал, что Толстой был неправ в своей теории о смерти личности – но во всем остальном его критика Церкви была столь сильной и убедительной, что полностью от нее отказаться – все равно что отречься от самого себя! Невозможно было поверить, что сухие строки вердикта об отлучении стоят больше, чем живая душа верующего в правду человека!
Я обязан был успокоиться. Труднее всего было представить этакого смиренного Льва Толстого, сидящего передо мною в кресле, который говорит, что его страстные искания ничто перед правильными формулами и безжизненными атрибутами истины. Живой Толстой, и как стало ясно, сохранившийся личностно, не дискретный, никогда был не превратился в человека без лица.
Это был бы не Толстой.
Однако при дальнейшей работе над записью стали появляться странные утверждения, которые можно было толковать в пользу того, что такое превращение земного Толстого в другого Толстого – все же возможно!
«Я сейчас просто другой»
«Сейчас здесь – я уже другой»
«Мы много потом передумывали!»
«Мы много потом передумывали!»
Я пытался увидеть другого князя Нехлюдова, в котором Толстой изобразил самого себя – и не мог! Не мог я поверить, что в романе «Воскресенье» (1899) само движение главного героя от «животного человека» к «человеку духовному» было ложью. Не мог представить, что фальшивым было отношение князя, увидевшего насилие во всей огромной империи, освященное иконками да крестами, на которых изображался как раз Тот, кто от насилия и пострадал!
Первое помещение за дверьми была большая комната со сводами и железными решетками в небольших окнах. В комнате этой, называвшейся сборной, совершенно неожиданно Нехлюдов увидел в нише изображение распятия. «Зачем это?» - подумал он, невольно соединяя в своем представлении изображение Христа с освобожденными, а не заключенными.
Невозможно отречься от внутреннего протеста против бессмысленности христианского богослужения в тюрьме.
И никому из присутствовавших, начиная с священника и смотрителя и кончая Масловой, не приходило в голову, что тот самый Иисус, имя которого со свистом такое бесчисленное число раз повторял священник, всякими странными словами восхваляя его, запретил именно все то, что делалось здесь; запретил не только такое бессмысленное многоглаголание и кощунственное волхование священников-учителей над хлебом и вином, но самым определенным образом запретил молитвы в храмах, а велел молиться каждому в уединении, запретил самые храмы, сказав, что пришел разрушить их и что молиться надо не в храмах, а в духе и истине, главное же, запретил не только судить людей и держать их в заточении, а запретил всякое насилие над людьми, сказав, что он пришел выпустить плененных на свободу. Никому из присутствовавших не приходило в голову того, что все, что совершалось здесь, было величайшим кощунством и насмешкой над тем самым Христом, именем которого все это делалось.
Эти слова о религии в романе «Воскресение» (1899) фактически и стали последней каплей терпения церковного начальства. По тому, о чем думал Нехлюдов в тюремной церкви, пытаясь понять смысл противоестественного, как ему казалось, соединения Христа с убивающими душу обрядами почитания Его, был составлен ответ писателю Толстому от лица Церкви в виде Определения Святейшего Синода (от 20-22 февраля 1901 г.): писатель Лев Толстой виноват в ниспровержении «всех догматов Православной Церкви и самой сущности веры христианской, он не признает загробной жизни, отрицает «бессеменное зачатие по человечеству Христа Господа и девство до рождества и по рождестве Пречистой Богородицы», «отвергает все таинства Церкви и благодатное в них действие Святого Духа и, ругаясь над самыми священными предметами веры православного народа, не содрогнулся подвергнуть глумлению величайшее из Таинств, святую Евхаристию».

Не смогли в церкви вынести и того, что в образе Топорова Россия узнала Константина Николаевича Победоносцева, обер-прокурора Священного Синода…
Должность, которую занимал Топоров, по назначению своему составляла внутренне противоречие, не видеть которое мог только человек тупой и лишенный нравственного чувства. Топоров обладал обоими этими отрицательными свойствами. Противоречие, заключавшееся в занимаемой им должности, состояло в поддерживании и защите внешними средствами, не исключая и насилия, той Церкви, которая по своему же определению установлена самим Богом и не может быть поколеблена ни вратами ада, ни какими бы то ни было человеческими усилиями… Он относился к поддерживаемой им религии так, как относится куровод к падали, которую он кормит своих кур: падаль очень неприятна, но куры любят ее, и потому их надо кормить падалью.
Трудно представить, как можно начать обратный отсчет от того вывода, к которому пришел в своем духовном воскресении главный герой романа, переставший быть «животным человеком» и ставший «человеком духовным», а с ним вместе и писатель, осознавший, что люди мучают людей, и «единственное и несомненное средство спасения от того ужасного зла, от которого страдают люди, состояло в том, чтобы люди признавали себя всегда виноватыми перед Богом и потому не способными ни наказывать, ни исправлять других людей».
Невозможно идти путем обратным:
Нехлюдов понял теперь, что общество и порядок вообще существует не потому, что есть эти узаконенные преступники, судящие и наказывающие других людей, а потому, что, несмотря на такое развращение, люди все-таки жалеют и любят друг друга.
Мысли об исчезновении прежнего Толстого, страстного и протестного, захватили меня, когда я пытался понять, что подвигло его полностью признать правоту церкви…
Впрочем, я зацепился за самого себя… Почему «полностью», и почему «признал вину»? Разве было сказано в эфире так, как я подумал? Нет! Я услышал признание великого писателя, что «права оказалась церковь», но ее историческая правота заключалась, прежде всего в том, чтобы оформить самоотлучение Толстого, его собственный уход из церкви. И тогда слова Толстого означают не признание какой-то вины, а признание непреложного факта – самоотлучения.
Объясняя свое решение, митрополит Антоний (Вадковский) писал Софье Андреевне, что не Синод отлучил ее мужа, он сам себя отлучил – и Церковь лишь признала этот печальный факт.
«Не то, жестоко, что сделал Синод, объявив об отпадении от Церкви вашего мужа, а жестоко то, что сам он с собой сделал, отрекшись от веры в Иисуса Христа, Сына Бога живого, Искупителя и Спасителя нашего» – писал митрополит.
Изучение записи разговора продолжалось – я не раз садился за расшифровку тех мест, которые представляли для меня особый интерес в надежде услышать все, что мне хотели передать из Тонкого мира.
И я услышал.
Толстой соглашался с моей речью о том, что союз государства и церкви в теперешнем виде – вредоносный…
«Мы опять переживаем трудные времена – я с вами согласен!»
«Империя загнивает – согласен!»
«Русская церковь оказывается во власти (государства) – согласен с вами!»
«Империя загнивает – согласен!»
«Русская церковь оказывается во власти (государства) – согласен с вами!»
Значит, жив курилка! Ничего он не сдался! И ни в какого другого, какого не было прежде, не превратился.
Я осознал опасность невольного «вчитывания» своего смысла в звуковой файл – и категорически не хотел следовать тому, что мне хотелось бы слышать.
Опыт – и только опыт: единственный критерий.
Что бы я ни думал об ответе Толстого, следовало оставаться в рамках сказанного им: он признал правоту церкви. Не сказал только, какую? В чем «правота»? Видно также, что всю правоту он не признал, иначе не стал бы соглашаться со мной в оценке современного слияния государства и церкви.
Я вспомнил, что когда читал современников Льва Толстого, модернистских писателей и поэтов декадентского толка, то не раз удивлялся тому, что многие из них соглашались с вердиктом Церкви, но одновременно одобряли и критику Церкви со стороны Льва Толстого. Какое странное двоемыслие!
Впрочем, они его объяснили. Толстой не стал учителем для модернистов - декадентов, потому что шел путем нигилизма, отрицая культуру, науку, религию, но он шел по этому пути как праведный Иов, страдая в своем богоборчестве.
Василий Васильевич Розанов писал:
Синод и Толстой суть явления разных порядков. Нельзя алгебру опровергать стихами Пушкина, а стихи Пушкина нельзя критиковать алгебраически. Нужно всмотреться во все учреждение Синода, в рожденье его и историю, в механизм его устройства, в смысл вызова епископов заседающих, и в самый процесс заседания, и наконец в постоянные двухвековые темы его суждений, чтобы понять, что это есть строгое, точное, так сказать алгебраическое учреждение, без собственной личной в нем души, ее волнений, ее свободы, мучений совести. Синод не имеет ни традиций, ни форм судить явление чисто личной религиозной жизни. Отсюда прозаичность бумаги о Толстом. Митрополит Антоний в ответном письме графине Толстой не назвал синод «святейшим», что тогда же меня поразило, как правда, как пример невозможности употребить сей эпитет в языке неофициальном, частном, сердечном. Синод, не говоря о лицах, а говоря об учреждении, не имеет признаков личного существа. А Бог – личен, жив, свободен. Между тем Толстой, при полной наличности ужасных и преступных его заблуждений, ошибок и дерзких слов, есть огромное религиозное явление, может быть – величайший феномен религиозной русской истории за 19 веков, хотя и искаженный. Но дуб, криво выросший, все же не есть безличное «учреждение», которое никак не выросло, а сделано человеческими руками (Петр Великий с серией последующих распоряжений). Посему Синод не имеет возможности подойти к данной теме и долго колебался подойти. У Толстого – тоска, мучения, годы размышлений, Иова страдание, Иова буря против Бога. Толстой – бес перед Иисусом; определение же Синода просто есть вызванное обстоятельствами постановление чисто внешнего характера – до такой степени в методе и тоне его не отражается никакой религиозной тревоги, которая всегда лична ([1])
И тут в записи я услышал такое, что окончательно меня смутило, – я понял, что разговор на заданную тему оказался гораздо сложнее, чем я думал. Кто-то произнес:
«Его отлучение – у нас это радость!»
Ссылки
1. Записки Религиозно-Философских Собраний в С-Петербурге // Новый Путь. 1903. №2. С. 100-101.
Продолжение следует.