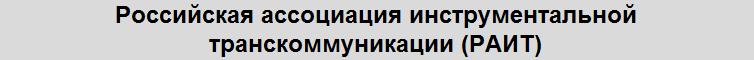Андрей Воинов
член РАИТ, исследователь ИТК (Москва)
Михаил Булгаков
(Контакты с Тонким миром)
Часть первая.
член РАИТ, исследователь ИТК (Москва)
Михаил Булгаков
(Контакты с Тонким миром)
Часть первая.
Далеко не всегда мои предварительные мысли совпадают с тем, что я узнаю в сообщениях Оттуда. Иногда я оказываюсь в состоянии человека, изумленного полученной информацией. Но по истечении времени понимаю, что ошибок Там не бывает. И моя задача как исследователя – не спорить, а понять тот или иной приговор. Надо уметь вникнуть в мотивы, которые привели ту или иную духовную сущность к пониманию допущенных ошибок. Особенно это нелегко сделать тогда, когда узнаешь, что талантливый человек, захвативший своим творчеством внимание миллионов людей, оказался не на высоте Там, где нет никакого преемственного признания чинов, наград, статусов, талантов, гениальности, где оценивается только сущность испытуемого, – его совесть. Слово «совесть» буквально и означает со-весть (со-знание): это такое соединение с высшим порядком, которое свидетельствует о мере одухотворенности всякой личности. Человек сам отрекается от высшего порядка, от со-вести, если отдает себя полностью во власть земного круга вещей, во власть мимотекущего времени – а не вечности…
17 мая 2015 года, находясь в Будапеште по научным делам, я в смутной тревоге начал контакт со станцией Санчита, чтобы узнать о посмертной судьбе Михаила Афанасьевича Булгакова, автора бессмертного романа «Мастер и Маргарита». Кроме тревоги, была и некоторая уверенность, что писатель, едва ли не публично обличавший советскую власть и ее приспешников, так много страдавший от невозможности свободно жить и творить, обязательно получит в награду, если не свет, то хотя бы покой, о котором мечтал. Но что такое «покой» в Тонком мире? Это только наша иллюзия в полагании того, что после смерти всякая жизнь завершается, и нет ничего, кроме воздаяния.
Булгаков явно не рассчитывал на рай, боялся ада, и был готов обрести после смерти такое место, где не будет больше страданий, мучений, но останется за ним право писать гусиным пером, слушать классическую музыку и наслаждаться общением с теми, кто ему дорог.
Контакт задел меня за живое: и хотя я был готов узнать «всякое», но сердце мое сжалось, когда я услышал в ответ на вопрос об уровне его пребывания в ТМ чьи-то горькие слова:
17 мая 2015 года, находясь в Будапеште по научным делам, я в смутной тревоге начал контакт со станцией Санчита, чтобы узнать о посмертной судьбе Михаила Афанасьевича Булгакова, автора бессмертного романа «Мастер и Маргарита». Кроме тревоги, была и некоторая уверенность, что писатель, едва ли не публично обличавший советскую власть и ее приспешников, так много страдавший от невозможности свободно жить и творить, обязательно получит в награду, если не свет, то хотя бы покой, о котором мечтал. Но что такое «покой» в Тонком мире? Это только наша иллюзия в полагании того, что после смерти всякая жизнь завершается, и нет ничего, кроме воздаяния.
Булгаков явно не рассчитывал на рай, боялся ада, и был готов обрести после смерти такое место, где не будет больше страданий, мучений, но останется за ним право писать гусиным пером, слушать классическую музыку и наслаждаться общением с теми, кто ему дорог.
Контакт задел меня за живое: и хотя я был готов узнать «всякое», но сердце мое сжалось, когда я услышал в ответ на вопрос об уровне его пребывания в ТМ чьи-то горькие слова:
«На втором уровне!»
И при повторе вопроса – тот же ответ:
«На каком уровне в Тонком мире он находится – на втором я уровне!»
Обычно духовная сущность переходит в третий уровень Тонкого мира быстро, не задерживаясь на втором. Если нет никаких осложняющих обстоятельств, нет преступлений. Если душа легка на подъем, не тяжела своими привязанностями к земному миру. Третий уровень – это уровень «воскресения», в нем нет духовного дискомфорта, нет мучений, хотя проблемы психологического порядка остаются. Здесь личность решает окончательно: двигаться наверх или уйти в реинкарнацию для получения нового опыта. На четвертом уровне, уровне Эйдоса, уже нет необходимости в реинкарнации, душа обретает такое знание, которое ломает все прежние стереотипы и мыслительные привычки, она предчувствует новый божественный мир в его высших энергиях. Более высокие уровни, вплоть до седьмого, приближают духовную сущность к Творцу, и каждый может когда-нибудь стать его «младшим партнером».
Булгаков мне ответил:
«Я счастлив тебя слушать!»
Понимая, что я буду огорчен, узнав о месте его пребывания, он сказал, то ли весело, то ли грустно, но по-булгаковски выразительно и точно:
«Я по морде получил!»
Полную сохранность личности Булгаков гарантировал словами:
«Я здесь ничего не забыл!»
Память остается – ничего не забывается, а оценка прожитой жизни уже другая: личность видит себя как бы со стороны, с позиций Того света, который открывает бесконечную любовь Творца к своему творению.
«Страшные вещи я делал»
«Страшный я был такой!»
Я спросил: не сожалеет ли он, что написал роман «Мастер и Маргарита»? Ответ вписался в мой вопрос сразу:
«Вы не сожалеете, что написали роман «Мастер и Маргарита»? –
это лучшее что я написал!»
это лучшее что я написал!»
То ли Булгаков, то ли кто-то другой сказал, как бы отвечая на все мои вопросы сразу, и понимая, что я не остановлюсь на полученной информации:
«Не плотью мы живы, а душевно!»
Не без юмора прозвучал чей-то комментарий:
«Верным курсом идете, товарищ!»
И уж точно сам Булгаков сказал:
«Я скоро к вам приеду!»
Я уже не раз отмечал, как велика в транскоммуникации роль предварительной ошибки, если она исправляется при помощи комментариев из Тонкого мира. Не хочу сказать, что это целый метод познания, но технологически важно, что поправляют именно Там, – и никаким «вчитыванием» смысла это уже не объяснишь.
На следующий день, 18 мая, после дневного научного заседания, я отправился в гостиницу, чтобы погрузится в новое переживание посмертной судьбы Булгакова. При первом прослушивании, которому я не придавал большого значения, понимая, что многое придется еще уточнять, я неверно услышал, что писатель ушел в реинкарнацию.
Контакт начался с необычного возгласа:
«Да здравствует реинкарнация!»
Более того – мне почудилось, что в первом контакте сказано было о новом рождении Булгакова, и не где-нибудь, а… в Париже.
Как я «угадал»! Как попал в болевую точку всей его жизни!
Булгаков сначала не согласился со мной:
«Зачем в реинкарнацию меня отправили – я здесь!»
Но тут же добавил:
«Согласен хоть на Париж – лишь бы здесь не мучиться!»
Кто-то вмешался в наш разговор и уточнил:
«Не может он родится в другой стране!»
Надо же! И уехать не мог от советской власти, которая душила его в беспощадных объятьях, и вновь родиться, но в Париже, тоже не может…
Булгаков не зря верил в судьбу!
Всю свою земную жизнь он мечтал, – нет, не так… бредил отъездом за границу; особенно ему хотелось попасть в столицу Франции. Это желание стало почти болезненным в 1929 году, когда у него возникла тревога, что уехать из страны Советов, ему, драматургу с репутацией почти белогвардейской, не дадут уже. И не потому, что Советская власть не хотела избавить себя от назойливого «контрреволюционного» писателя, показавшего сущность революции в образе Шарикова, а потому, что как раз надеялась – и не напрасно – что удастся приручить Булгакова, сделать его более сговорчивым.
Булгаков ненавидел советскую власть, но он никогда не отрицал тайну высшей власти, которая, будучи Злом, может совершать и благие дела. Ненавидя советскую власть в массе людей, Булгаков боготворил власть Сталина. Нет, не его заслуги перед партией, а тайну беспредельной (мистической) власти, которая виделась ему единственным источником борьбы… с советской властью. Тут он во многом совпадал с вождем: Сталин презирал людей и не верил в Добро, Булгаков тоже презирал людей, и не верил в Добро. Сталин мог растоптать любого, кто осмелится перечить ему, и Булгаков всегда надеялся на то, что такой авторитет, как Сталин, может растоптать всех его недругов, завистников и прочих представителей власти средних и низших уровней, портивших ему жизнь.
Булгаков начал свою литературную жизнь в Москве, как сменовеховец, – человек, сознательно избравший для себя путь примирения с советской властью через признание того, что она, не будучи выбранной им по морально-этическим соображениям, сильна мнением народным.
Вождь большевиков не раз смотрел во МХАТе спектакль «Дни Турбиных», в котором разыгрывалась драма с демонстрацией умных и положительных белогвардейцев. Сталина нисколько не коробило это обстоятельство, как многих других его товарищей по партии, ведь Булгаков изображал тех, кого по смыслу пьесы не поддержал «народ», от имени которого и действовали большевики. Сталину очень нравилось, что враг признает силу и право большевиков на власть! Таким было сменовеховство Булгакова, таким оно было у Алексея Николаевича Толстого и прочих писателей, вернувшихся в СССР из эмиграции, с признанием того, что белое движение проиграло историческую битву. Булгаков в отличие от обычного сменовеховца, утверждая силу большевиков, хотел уехать за рубеж: он не был разочарован Западом, не был раздавлен нуждой на чужбине, потому что свято верил в свой успех там, куда его не пускали, и где он ни разу не был.
В июле 1929 году, дойдя до отчаяния из-за гонений на творчество, он написал Сталину письмо.
Ответа не получил.
Однако на заявление, направленное начальнику Главискусства тов. А.И. Свидерскому, ответ пришел. В заявлении Булгаков объяснял свои беды примерно так же, как и в письме Сталину:
«В этом году исполняется десять лет с тех пор, как я начал заниматься литературой в СССР. За этот срок я, ни разу не выезжая за пределы СССР (в Большой Советской Энциклопедии помещено в статье обо мне неверное сведение о том, что я якобы одно время был в Берлине), написал ряд сатирических повестей, а затем четыре пьесы, из которых три шли при неоднократных цензурных исправлениях, запрещениях их и возобновлениях на сценах государственных театров в Москве, а четвертая «Бег» была запрещена в процессе работы над нею в Московском Художественном театре и света не увидала вовсе. Теперь мне стало известно, что и остальные три в представлению запрещаются. Таким образом, в наступающем сезоне ни одна из них, в том числе и любимая моя работа «Дни Турбиных», - больше существовать не будут. Я должен сказать, что в то время, как мои произведения стали поступать в печать, а впоследствии на сцену, все они до одного подвергались в тех или иных комбинациях или сочетаниях запрещению, а сатирическая повесть «Собачье сердце», кроме того, изъята у меня при обыске в 1926 году представителями Главного Политического Управления. По мере того, как я писал, критика стала обращать на меня внимание и я столкнулся со страшным и знаменательным явлением. Нигде и никогда в прессе в СССР я не получил ни одного одобрительного отзыва о моих работах, за исключением одного быстро и бесследно исчезнувшего газетного отзыва в начале моей деятельности, да еще Вашего и А.М. Горького отзывов о пьесе «Бег». Ни одного. Напротив: по мере того, как имя мое становилось известным в СССР, пресса по отношению ко мне становилась все хуже и страшнее. Обо мне писали, как о проводнике вредных и ложных идей, как о представителе мещанства, произведения мои получали убийственные и оскорбительные характеристики, слышались непрерывные в течение всех лет моей работы призывы к снятию и запрещению моих вещей, звучала открытая даже брань.
Вся пресса направлена была к тому, чтобы прекратить мою писательскую работу, и усилия ее увенчались к концу десятилетия полным успехом: с удручающе документальной ясностью я могу сказать, что я не в силах больше сущестовать как писатель в СССР. После постановки «Дней Турбиных» я просил разрешения вместе с моей женой на короткий срок уехать за границу – и получил отказ. Когда мои произведения какие-то лица стали неизвестными мне путями увозить за границу и там расхищать, я просил о разрешении моей жене одной отправиться за границу – получил отказ.
Я просил о возвращении взятых у меня при обыске моих дневников – получил отказ. Теперь мое положение стало ясным: ни одна строка моих произведений не пройдет в печать, ни одна пьеса не будет играться, работать в атмосфере полной безнадежности я не могу, за моим писательским уничтожением идет материальное разорение, полное и несомненное.
И, вот, я со всею убедительностью прошу Вас направить правительству СССР мое заявление:
Я прошу Правительство СССР обратить внимание на моей невыносимое положение и разрешить мне выехать вместе с моей женой Любовью Евгеньевной Булгаковой за границу на тот срок, который будет найден нужным».
Удивительно, но большевики обратили внимание на его бедственное положение. Свидерский даже принял его у себя. Потом написал секретарю ЦК ВКП (б) Смирнову А.П. письмо, в котором сообщал:
«Я имел продолжительную беседу с Булгаковым. Он производит впечатление человека затравленного и обреченного. Я даже не уверен, что он нервно здоров. Положение его действительно безысходное. Он, судя по общему впечатлению, хочет работать с нами, но ему не дают и не помогают в этом. При таких условиях удовлетворение его просьбы является справедливым».
Смирнов написал письмо В.М. Молотову – в Политбюро ЦК ВКП (б). В нем, в частности, говорилось:
«Что же касается просьбы Булгакова о разрешении ему выезда за границу, то я думаю, что ее надо отклонить. Выпускать его за границу с такими настроениями – значит увеличивать число врагов. Лучше будет оставить его здесь, дав АППО ЦК указания о необходимости поработать над привлечением его на нашу сторону, а литератор он талантливый и стоит того, чтобы с ним повозиться».
В августе 1929 года Булгаков пишет письмо брату Николаю, живущему в эмиграции, в Париже, явно с расчетом, что письмо обязательно прочитают там где надо.
«Без всякого малодушия сообщаю тебе, мой брат, что вопрос моей гибели это лишь вопрос срока, если, конечно не произойдет чуда».
Булгаков написал письмо и секретарю ЦИК Союза ССР Абелю Енукидзе, с той же просьбой, – выпустить его за границу:
«Все запрещено, я разорен, затравлен, в полном одиночестве. Зачем держать писателя в стране, где его произведения не могут существовать? Прошу о гуманной резолюции – отпустить меня».
Вспомнил он о хорошем отношении к себе Горького – и написал ему письмо:
«Зачем задерживают в СССР писателя, произведения которого существовать в СССР не могут? Чтобы обречь его на гибель?».
Однажды Булгаков признался писателю В. Вересаеву в том, что был близок к тому, чтобы выстрелить в себя...
В марте 1930 года он вновь пишет письмо «Правительству СССР». В нем перечисляет все несовместимости его личности с советской властью.
«После того, как все мои произведения были запрещены, среди многих граждан, которым я известен как писатель, стали раздаваться голоса, подающие мне один и тот же совет. Сочинить «коммунистическую пьесу», а кроме того, обратиться к Правительству СССР с покаянным письмом, содержащим в себе отказ от прежних моих взглядов, высказанных мною в литературных произведениях, и уверения в том, что отныне я буду работать, как преданный идее коммунизма писатель-попутчик. Цель: спастись от гонений, нищеты и неизбежной гибели в финале. Этого совета я не послушался Навряд ли мне удалось бы предстать перед Правительством СССР в выгодном свете, написал лживое письмо, представляющее собой неопрятный и к тому же наивный политический курбет. Попыток же сочинить коммунистическую пьесу я даже не производил, зная заведомо, что такая пьеса у меня не выйдет».
Булгаков даже признал правильными грязные ругательства в свой адрес, и такие в том числе, что он «литературный уборщик», «сукин сын», подбирающий объедки после того, как «наблевала дюжина гостей» - и все ради того, чтобы вновь и вновь сказать об отъезде из страны Советов. Булгаков писал, что он не приемлет цензуры, и жить с нею не может:
«Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что, если кто-нибудь из писателей задумал бы доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода».
Он высказал едва ли не самую глубокую мысль о неприемлемости самой революции в отсталой стране, где люди не готовы еще к высоким начинаниям и социальным экспериментам, где они не знают, что такое истинная свобода:
«Вот одна из черт моего творчества и ее одной совершенно достаточно, чтобы мои произведения не существовали в СССР. Но с первой чертой (свободой творчества – А.Ю) в связи все остальные, выступающие в моих сатирических повестях: черные и мистические краски (я – мистический писатель), в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противупоставление ему излюбленной и Великой Эволюции, а самое главное – изображение страшных черт моего народа, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя М.Е. Салтыкова-Щедрина».
И вновь – рефрен: «Мыслим ли я в СССР?»
И вновь – отчаянная просьба:
«Я прошу правительство СССР приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР в сопровождении моей жены Любови Евгеньевны Булгаковой».
Иначе, как садизмом не назовешь попытки большевиков оставить Булгакова в стране и мучить его дальше. Рука, ухватившая писателя за горло, слегка разжала пальцы, чтобы умученный смог передохнуть и подготовить себя к новой волне физического удушения, – такой образ сам по себе напрашивается по мере чтения биографических материалов писателя.
18 апреля 1930 года случилось «чудо», если рассматривать его в категориях «мистического писателя», каким считал себя Михаил Афанасьевич. В мемуаре Елены Сергеевны Шиловской (урожденной Нюренберг), третьей жены писателя, это событие произошло так: лег после обеда Булгаков спать, и вдруг… телефонный звонок.
-Михаил Афанасьевич Булгаков?
-Да, да.
-Сейчас с вами товарищ Сталин будет говорить.
-Что? Сталин? Сталин?
И тут же услышал голос с явно грузинским акцентом:
-Да, с вами Сталин говорит. Здравствуйте товарищ Булгаков (или Михаил Афанасьевич – не помню точно).
-Здравствуйте, Иосиф Виссарионович.
-Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь… А может быть, правда, - вас отпустить за границу?.. Что – мы вам очень надоели?
М.А. сказал, что он настолько не ожидал подобного вопроса (да и звонка вообще не ожидал), - что растерялся и не сразу ответил:
-Я очень много думал в последнее время – может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может.
-Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?
-Да, я хотел бы. Но я говорил об этом, и мне отказали.
-А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами…
-Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить.
- Да, нужно найти время и встретиться обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего.
Встречи не было – но Булгаков всю жизнь ее ждал…
Он был очарован мистической волей Зла устраивать добрые дела. Он прекрасно понимал, что значат «скромные» слова генерального секретаря партии – «мне кажется, что они согласятся»… Эти злые театральные критики, причинявшие Булгакову столько гадостей и неприятностей, увидят его во МХАТе, – и не пикнут! Будут молчать! Будут уважать и даже боятся его! Вот так, голубчики, вот так мерзавцы! Знайте свое место…
Сталин вошел в сознание мистического писателя демиургом, задолго до того, как Булгаков стал задумываться о природе Воланда, искушающего человечество свой непостижимой силой творить добро, будучи источником зла!..
Сталин не сотворил чуда! Эта была имитация чуда, это была галлюцинация, но в нее поверил писатель.
Булгаков потом много раз просил отпустить его за границу, забрасывал Сталина письмами в надежде вернуться к начатому разговору – но все напрасно! «Замок», исполненный кафкианского духа, молчал, как и полагается мистической силе зла быть всегда вне человеческого закона, вне человеческой совести, вне права и правопорядка.
И вот однажды над ним дьявольски посмеялся тот, кому Булгаков поверил…
18 мая 1934 года раздался телефонный звонок. Приятный баритон сообщил Булгакову, что нужно идти в Иностранный отдел Исполкома и получить там заграничные паспорта, подготовленные для него и Елены Сергеевны.
Они помчались во всю прыть! Их встретил служащий по фамилии Бориспольц. В дневнике Елены Сергеевны четко зафиксировано, что она видела на столе два красных паспорта. Она хотела уплатить за них, но Бориспольц сказал, широко улыбаясь в знак глубокого уважения, что паспорта «выдаются по особому распоряжению»! Нужно только заполнить анкеты.
Из дневника Елены Сергеевны:
Когда мы писали, М. А. меня страшно смешил, выдумывая разные ответы и вопросы. Мы много хихикали, не обращая внимания на то, что из соседних дверей вышли сначала мужчина, а потом дама, которые сели тоже за стол и что-то писали.
Когда мы поднялись наверх, Борисполец сказал, что уже поздно, паспортистка ушла и паспорта сегодня не будут нам выданы. «Приходите завтра».
- «Но завтра 18-е (шестидневка)». - «Ну, значит 19-го».
На обратном пути М. А. сказал:
- Слушай, а это не эти типы подвели?! Может быть, подслушивали? Решили, что мы радуемся, что уедем и не вернемся?.. Да нет, не может быть. Давай лучше мечтать, как мы поедем в Париж!
И всё повторял ликующе:
- Значит, я не узник! Значит, увижу свет!
Шли пешком, возбужденные. Жаркий день, яркое солнце. Трубный бульвар. М. А. прижимает к себе мою руку, смеется, выдумывает первую главу книги, которую привезет из путешествия.
- Неужели не арестант?! Это - вечная ночная тема: Я - арестант... Меня искусственно ослепили...
Но вскоре выяснилось, что это была проверка Булгаковых, – им показали паспорта, но выдавать не стали. Вместо паспорта Булгакову дали бумагу об отказе…
Прочих – отпускали: актеры вместе с театром уезжали на гастроли в Париж, известный писатель Борис Пильяк отправился вместе с женой в заграничное турне, Станиславский и особенно Немирович-Данченко не вылезали из командировок по всему миру, – и только Булгакову было написано на роду, – не выпустят!
Никогда!..
Булгаков превращался в невротика, которому тяжело было выходить на улицу и видеть скопление людей, он стал бояться толпы, и нередко Елена Сергеевна сопровождала его в театр и встречала на обратном пути домой.
18 мая 2015 года я услышал булгаковские слова, исполненные глубокой горечи.
Судьбоносной горечи!
«Я очень хочу оказаться в Париже!»
(продолжение следует)